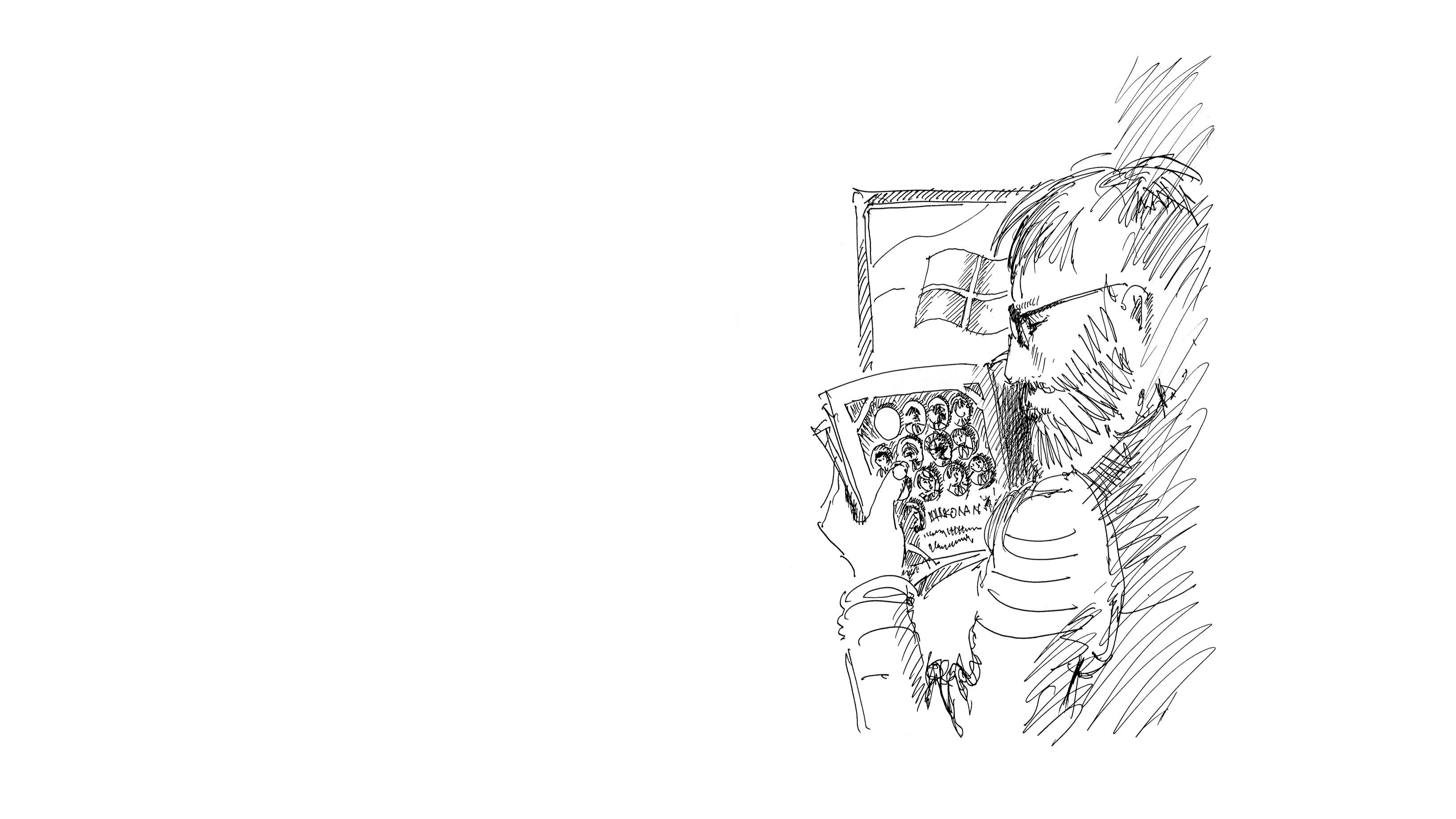Проделки Деррида, или А был ли мальчик?
Кстати, о незнакомых бумагах, которые после тщательного изучения и длительных раздумий внезапно оказываются твоими. Тобой самим натюканными на печатной машинке.
Такой феномен неузнавания возникает не только из-за того, что прошла уже прорва лет и события постоянно меняющейся жизни заслоняют от тебя прошлое. И постоянно этот заслон становится всё толще, все эшелонированнее, как говорят военные. Накарябанную своей рукой запись ты немедленно узнал бы. А вот печатные буквы у всех машинок примерно одинаковы.
Что же касается компьютерных файлов формата doc, то тут насчет выяснения авторства сущая беда. Буковки можно сделать какие захочешь. Хоть Times, хоть Arial, хоть Verdana, хоть Shiruti. И кегль можно сделать любым. И можешь этот файл не сам набрать, а скачать из интернета. Или тебе его по почте пришлют. А то и вовсе какой-либо вирус внедрит его в твой компьютер. И идентификатор файла, где указывается автор, можно при желании переписать как угодно.
И вот сидишь и напряженно размышляешь. И размыслить бывает очень сложно. Потому что человек лет через десять–пятнадцать становится совсем другим: с другим ходом мыслей, с изменившимся лексиконом и прочими идентификационными параметрами.
И даже если это и твой файл, то ты имеешь уже дело с сочиненным не тобой, а твоим симулякром.
(Отметим в скобках, что наиболее остро эта проблема проявляется в поэзии. Так, например, я был поражен, когда один известный поэт читал свои стихи, давно уже ставшие хрестоматийными, по прошествии многих лет после их написания. Интонации были абсолютно другими. Потому что читал он уже не свои стихи).
Говорю я все это не из праздных соображений. И не для того, чтобы зародить в читателе неуверенность относительно его настоящности и непрерывности во времени. Просто хочу поведать историю… Собственно, и не историю даже, а переживание, которое я испытал не столь давно.
Короче, набрел я в собственном компьютере вот на такой вот файл:
Смерть фашиста
В первый раз я увидел фашиста году в шестидесятом. Им был десятилетний мальчик, мой одноклассник Толик Гершман. Зимой, нарисовав на отогнутом отвороте кожаной шапки свастику, он маршировал у сараев и периодически вскидывал правую руку вперед и вверх. Естественно, это стало известно его папе, который поговорил с сыном, и сын перестал быть фашистом.
Надо сказать, что Толик был очень одаренным мальчиком – таких в классе было нас двое. Но от меня он отличался еще и гипертрофированным нигилизмом и крайне критичным отношением к системе социальных ценностей. В общем, был талантом с мятежною душою. Сочетание этих качеств должно было бы привести его либо в лагерь инакомыслящих, либо на передний край какой-либо науки.
Однако у судьбы были совсем иные планы относительно его будущего. Надо сказать, довольно подлые.
Когда в его крови забурлил подростковый дерзкий протест против всего сущего на свете, его отец сел в тюрьму. Он был директором парикмахерской, где произошел роковой (в том числе и для Толика) несчастный случай. Взорвалась бутыль с ацетоном, сгорела парикмахерша, и Гершмана-старшего за попрание норм производственной безопасности и халатность осудили года, по-моему, на три–четыре.
Был он человеком в высшей степени умным и в семье лишь один мог как-то корректировать мятежность сына. Потому что мать у Толика была красивая, молодая. Ну и к тому же украинка. Это я к тому, что Толик в детских стычках всегда бился, как запорожец – не обращая внимания на хлеставшую из носа кровь.
И Толик в отсутствие отца в самый важный для себя период становления-взросления пошел вразнос, сорвался с резьбы, вошел в экзистенциальный штопор. Несмотря на прекрасную успеваемость, в институт он не пошел. А немедленно женился на особе с двумя детьми. Устроился работать на мясокомбинат каким-то то ли расчленителем, то ли вообще убивцем. Периодически появлялся в наших краях, бия себя в грудь и приговаривая «мы, рабочий класс», видимо, бунтуя тем самым против собственного еврейства. Сорил деньгами, которые тратились на портвейн и закуску в виде шоколадок.
Потом сведения о нем стали доходить всё реже. Стало известно, что он пьет, что он стал начальником цеха, что он то ли три раза развелся и пять раз женился… Что он умер, не дотянув и до пятидесяти.
Пытаясь разобраться в причинах этого печального краха биографии, мы обнаруживаем, что это задача с множеством неизвестных, то есть сослагательных. И они настолько переплетены, что разум наш немеет и мы, испуганно озираясь, твердим лишь одно слово: «рок», бессмысленный и беспощадный, загубивший в эмбриональном состоянии мильоны Платонов и Невтонов.
Я погрузился в раздумья.
Ни с каким таким Толиком Гершманом я не учился! Это с одной стороны. С другой стороны, стилистически это был мой текст. Свои интонации я узнал. И они были теперешними, то есть написано это было, видимо, недавно.
Можно было предположить, что это чистый вымысел. Довольно эффектный, надо сказать. Значит, это рассказ. Однако такой публикации я не помнил. Ведь не мог же толстый литературный журнал, с которым я сотрудничаю в последнее время, не напечатать его! Конечно, не мог. Поскольку рассказ-то хорош.
И выходило, что это какая-то мемуарная зарисовка. В которую непонятным образом затесался этот Толик с исковерканной судьбой.
Чтобы окончательно убедиться в отсутствии у меня склероза, я достал из альбома школьную выпускную фотографию: Журова Л., Коробова Н., Коняев А., Иванова Н., Жданкина В., Тучков Б., Животникова А., Малыгина Е., Коваленкова Л., Волокушин В., Оськина В., Трофимов А., Прохорова Н., Тучков В., Тесовская Г., Кузьмин А., Кобылер Э., Сушкова С., Середняя Г., Куликов М., Васильева Л., Бурдынский В., Юдина Н., Кузьмин В., Панюшкина Т., Галкин В., Калинина Н., Бурдынский В.
Никакого Гершмана А. не было.
Закусив удила, я решил заняться расследованием. Для чего, потратив полдня, съездил в подмосковный поселок, в котором я прожил до двадцати трех лет. Чтобы расспросить о загадочном Гершмане у старожилов, которые еще, может быть, живы. Побродил между двадцатью домами, но натыкался исключительно на незнакомцев. Они не имели понятия ни о Гершманах, ни о Коняевых, ни о Канунниковых, ни о Калининых, ни о Рытиковых, ни о Кузнецовых, ни о прочих, которых до семидесятого года здесь было хоть пруд пруди.
Вернулся ни с чем.
Оставалось воспользоваться более современным и несравненно более мощным средством поиска – мировой паутиной. Потому что поисковики способны разыскивать не только живых людей, но и мертвых, оставивших на земле хоть какой-то след.
Довольно скоро в Чикаго нашелся наиболее подходящий Анатолий Гершман. Год рождения был тот же самый – 1949-й. И даже фотография была, на которой был изображен немолодой лысый человек. Вполне понятно, что его внешность мне ничего не дала. Потому что за сорок лет человек может превратиться не только в старика, но и шимпанзе.
Выходило так, что он был жив.
Я написал ему в «Одноклассники». Спросил, учился ли он в такой-то в школе в такое-то время и помнит ли меня. Однако ответа не последовало.
Жив, но, как говорил незабвенный Венедикт Васильевич Ерофеев, стал Манфредом и Каином. Или же мертв и превратился в маленькую щепоть культурного слоя.
Положение было безвыходным. Мысль моя носилась по кругу, словно собака, пытающаяся ухватить себя за хвост.
И вдруг я вырвался из замкнутого круга. И вспомнил, как семь лет назад писал для одного глянцевого журнала статью про мюзикл «Порги и Бесс». Который, между прочим, сочинил Джордж Гершвин. Хоть и не Анатоль, но очень похоже. Особенно если учесть, что либретто написал его брат Айра Гершвин. Это было уже совсем неподалеку от Анатолия Гершмана.
Вполне понятно, что этот мюзикл находился в статье не в безвоздушном пространстве. Невозможно было не упомянуть и еще один бродвейский хит, но уже другой эпохи, хиппарской, – «Волосы». Мой бред, зафиксированный в том загадочном файле, начинал обретать материальность. Пусть пока и зыбкую. Из «Волос» выросла профессия Гершмана-старшего – парикмахер.
Я отыскал файл с той статьей и углубился в ее изучение. Оказалось, что и пожар в парикмахерской был абсолютно закономерен. Он разгорелся вот из такого абзаца:
Жанр мюзикла появился на свет в Нью-Йорке в 1886 году. Сгорел один из многочисленных музыкальных театров, и труппа оказалась на улице. Продюсер погорельцев оказался ушлым человеком. Он обратился к коллеге одного из драмтеатров с предложением объединить две труппы, чтобы сделать синтетический спектакль. Эксперимент превзошел самые оптимистические ожидания: Нью-Йорк буквально сошел с ума от явленного ему нового жанра. Театры, в которых разыгрывались незамысловатые сюжеты, сопровождающиеся эксцентричной хореографией и разухабистым вокалом, начали расти, как грибы после дождя.
Что же касается тюрьмы, в которую угодил отец Толика, то это было совсем просто. Американские мюзиклы тюрьмами были буквально нашпигованы.
Просматривалась и довольно четкая связь между профессией, которую избрал Толик, и мюзиклом «Чикаго». Связь двухзвенная, напрямую не проистекающая из истории двух кровожадных бабенок. Из «Чикаго» строго логически вытекает «чикагская бойня» – кровавая перестрелка двух чикагский мафиозных кланов в День святого Валентина. От святого Валентина ниточка тянется к раннему и опрометчивому браку Толика. А поскольку «чикагская бойня» состоялась во времена действия в США сухого закона, то герой моей фантасмагории непременно должен был начать сильно пить. Что же касается его смерти, то… Я не стал утруждать себя поисками аллюзий и аллегорий, поскольку тут было абсолютно всё ясно – герой моего сочинения, как из пены морской, вышел из американского низкого театрального жанра.
Единственное, что было абсолютно непонятно, почему Толик был «фашистом». Потому что тогда, когда я писал статью, еще не существовало мюзикла «Вообрази это», где идет речь о восстании в варшавском гетто.
Я еще раз заглянул на страничку Анатолия Гершмана в «Одноклассниках» по адресу http://www.odnoklassniki.ru/profile/366853994551. И мне стало абсолютно всё понятно. Он родился 9 мая, в день, когда был вбит кол в фашистскую гадину. Надо сказать, Гершман-старший излечил сына от этой напасти менее жестоким способом.
Я, как принято писать в современных дерьмовых романах, откинулся на спинку кресла и закурил.
Всё, абсолютно всё сошлось.
Это был чистый симулякр, созданный мной по внешне навеянному сюжету. Очень может быть, я сконструировал его, находясь в далеко нетрезвом виде. А наутро уже абсолютно ничего не помнил.
И тут до меня дошло, что на поиски этого симулякра можно было затратить гораздо меньше усилий. Правда, в результате нашлось бы то же самое пустое место, дырка от бублика, зеро.
И написал письмо Фире Кобылер, с которой вместе оканчивал школу. И которая теперь Эсфирь Михайловна Морскова, как человек и гражданин, и Эсфирь Коблер – как писательница. И рассказал ей о забавных поисках никогда не существовавшего человека.
Пришедший на следующий день ответ сильно меня озадачил.
– Как это не существовал? – изумилась Фира. – Как это Толик Гершман не существовал?! Разве ты его не помнишь?!
Я вновь раскрыл альбом:
– Журова Л.
– Коробова Н.
– Коняев А.
– Иванова Н.
– Жданкина В.
– Гершман А!!!
Мгновенно узнал. Всё вспомнил.
Но ничего при этом не понял. Как? Почему? Каким образом он начисто стерся из моей памяти?
Потом подумал. И кое-что начал понимать.
И понял.
И тут же ледяная змейка скользнула вдоль моего позвоночника.
Это Деррида где-то там, у себя, с присущим ему артистизмом проделал фокус, искусный трюк. И спроецировал его на сюда.
Толик Гершман, которого не существовало, вдруг расклевал оболочку ноэмы, мысленного представления о себе, и не только внедрился в сознание нескольких людей, как минимум двоих, но и проступил на фотобумаге.
И смысл этого трюка заключается в том, что только письменность, но никак не логос, способна бороться с беспочвенностью человеческого существования.
Ну, может, в постановке трюка Деррида помог Гуссерль.
И тут надо поставить точку. Хоть многое можно еще наговорить и про то, что писатель – это демиург, который силой своего таланта создает новые миры. И про его ответственность за то, населяет ли он эти миры добром или злом. И про необходимость оценивать произведения не только по эстетической шкале, но и по конкретным статьям уголовного кодекса…
Но мы этого говорить не станем. Потому что это всё досужие россказни, бабьи сплетни, отрыжка съездов Союза писателей СССР.
Того самого СССР, в котором то ли жил Толик Гершман, то ли его там никогда не существовало.
И не только он один пал жертвой неявленности. Многие миллионы людей, еще как бы и живых, уже давно по своей внутренней сути являются вавилонянами, дорийцами, ахейцами, филистимлянами, финикийцами, шумерами. И об их существовании, о повадках и пристрастиях, о ремеслах и культуре, о праздниках и горестях можно узнать разве что из глиняных клинописных табличек.
Ну, за всех нас!
Пусть история нам будет пухом!
Не чокаясь!