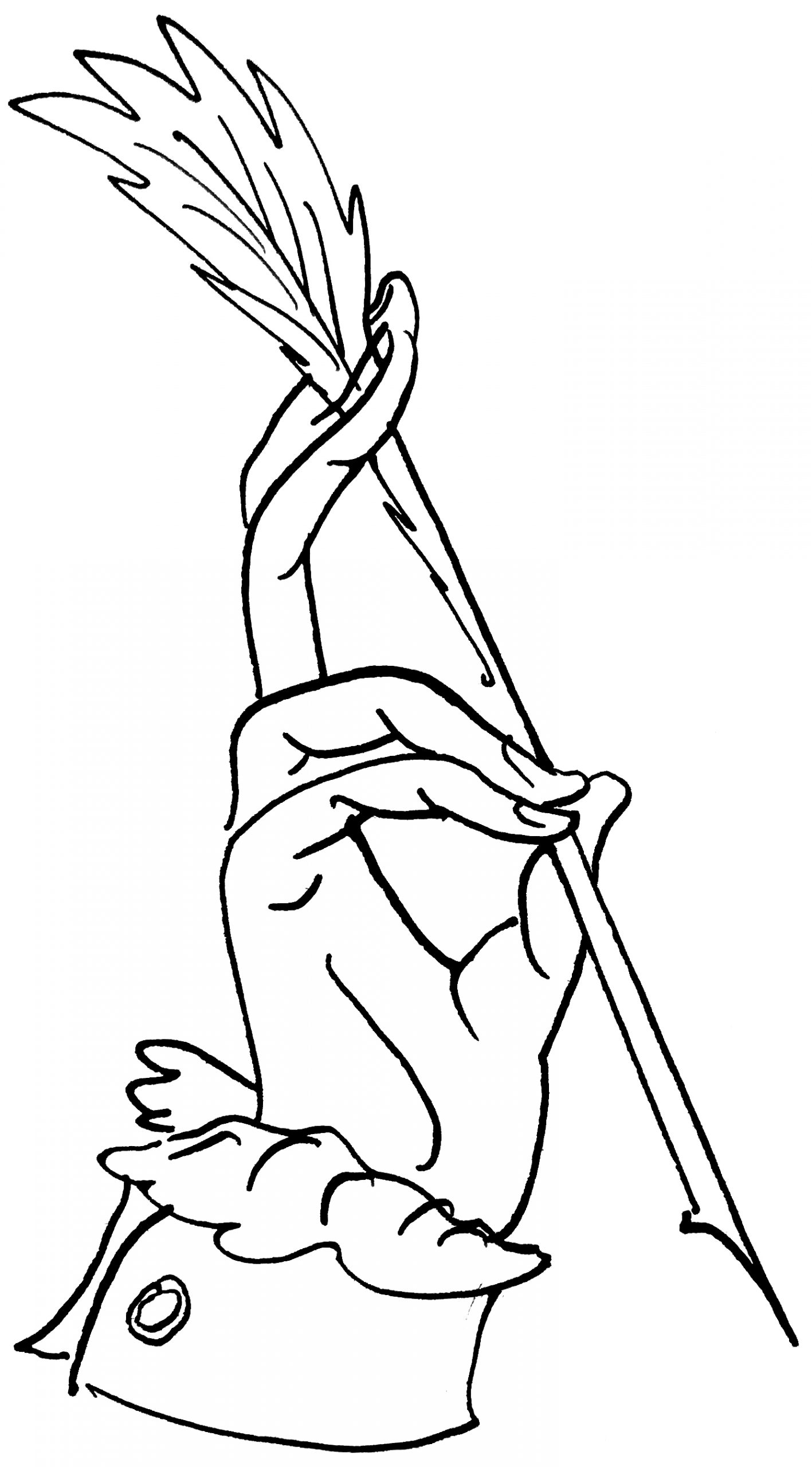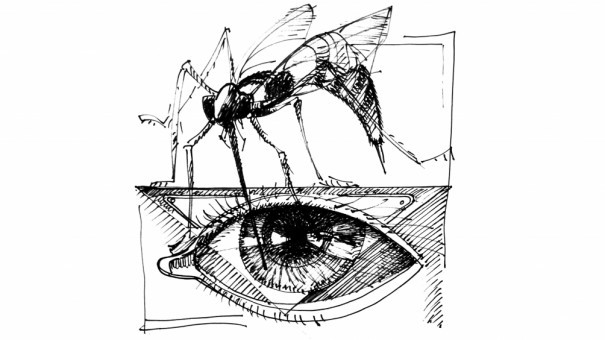Если я – придуманная птичка…
Московский поэт Игорь Караулов узнаваем даже в очень небольшой подборке. Каждое стихотворение автора – как новый мир, со своими героями, со своей логикой развития событий. Иногда это тексты в стиле фэнтези, иногда тонкая лирика, но всегда – ироничные и сохраняющие интригу.
То, как начинается и завершается стихотворение, какими неожиданными тропами автор выводит нас к финалу, каким парадоксальным и в то же время выверенным может оказаться этот финал – всё это приметы чудесного дара.
И не удивительно, что одной из любимых тем автора стали путешествия, возможность водить читателя по придуманному им миру. И самому быть в этом мире редкой, придуманной птичкой.
Марина Батасова
Поэт
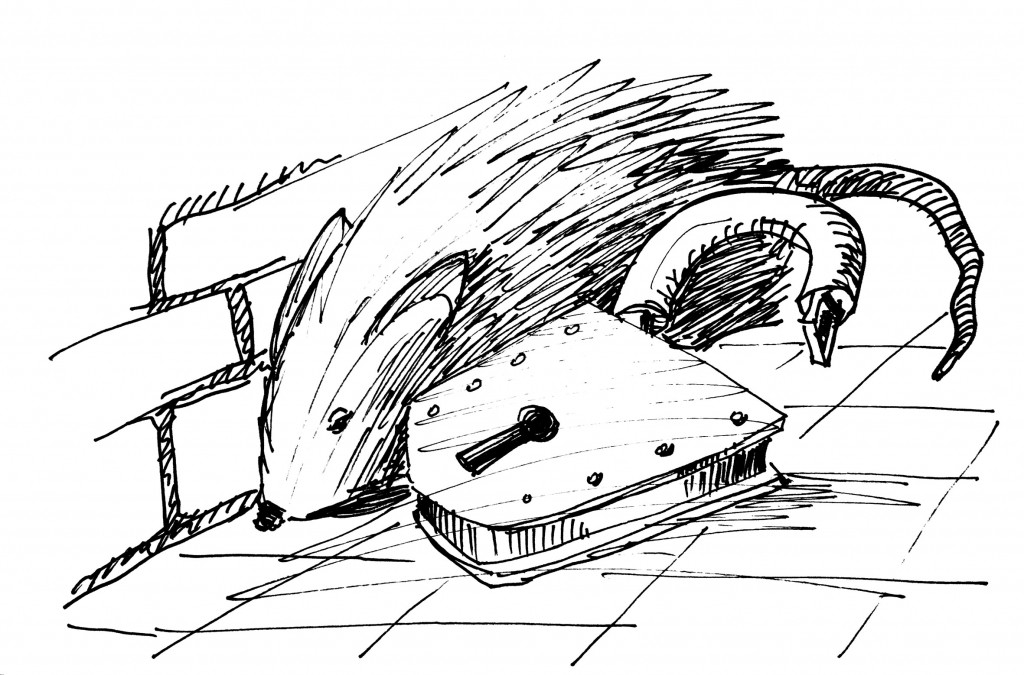
Побег
Держатели суровых черных ксив
забрали малахольного героя,
ни имени, ни даты не спросив.
По счастию, их было только трое.
И во дворе, где водят хоровод
разрозненные члены чьих-то кукол,
он выскользнул сквозь тонкий тайный ход.
Всесильный комитет его профукал.
«Врешь, не уйдешь», – кричал один из них.
«Уйди-уйди», – пел хор нетопыриный.
Но вскоре тот и этот голос стих,
а тесный лаз расширился в равнину.
Как хищно свет впивается в зрачки
некормлеными стайками пираний!
Найдя себя у берега реки,
он лег среди манжеток и гераней.
Река уносит мед и молоко
промеж холмов из сливочной помадки.
Хрустален свод и видно далеко,
но не видать ни хлева и ни хатки.
Ни с плугом не идут, ни нежных трав
стремительными косами не косят.
Здесь нет людей, и человечьих прав
никто не нарушает и не просит.
Тогда-то вспомнил он про свод иной,
где эти трое в непонятном ранге,
и мертвый свет по прозвищу «дневной»,
и пресс-папье, крушащие фаланги.
Он бросился назад, но где тот лаз?
Одни лишь земляничные куртины.
В бочаге ром, на елке ананас
и облаков презрительные спины.
По техническим причинам
Переносится вечер поэта такого-то
без особой причины, без явного повода,
ну а я-то как раз собирался прийти –
посидеть, пообщаться, свалить к десяти.
Две недели проходит – опять переносится.
Неуверенно держит очки переносица.
Может, что-то стряслось? Может, надо помочь?
Но порывы смиряет московская ночь.
Переносится снова, и снова, и снова
распиаренный вечер поэта такого.
Неужели не слышать уж нам никогда
эти строки, душистые, как резеда?
Просмоленного голоса фиоритуры,
отголоски судьбы и обломки культуры,
эти рифмы, что некогда шли на ура,
вдохновив нас на первые пробы пера?
А представьте – однажды возьмет и объявится,
будет в правой сигара, а в левой красавица,
и четырнадцать верных, лениво пришед,
позабудут о том, что пришли на фуршет.
Докинз
Дураки читают по утрам.
К ним не прилетает Мэри Поппинс.
К ним невозмутимый, как сто грамм,
вваливается профессор Докинз.
«Я объехал тот и этот свет, –
говорит дедуля в коверкоте, –
и нигде, представьте, Бога нет.
Так я написал в своем отчете.
И с тех пор на завтрак и обед,
перед сном и всякую минуту
радуюсь тому, что Бога нет;
радоваться надо ж хоть чему-то.
«Бога нет!» – ликуют воробьи
и любая прочая пичуга.
«Бога нет!» – фракийские рабы,
в бой идя, приветствуют друг друга.
«Бога нет!» – устало и светло
говорю и пустоту лелею,
и кому без Бога тяжело,
всех благословляю и жалею».
И в обнимку с новым дураком,
дерево для верности потрогав,
он уходит лунным молоком
посуху в страну единорогов.
ХХХ
Куда носили, где похоронили –
не ваше дело, наше барахло.
Кто говорит, что тело уронили?
Оно под почву странствовать ушло.
Скажите, не выбалтывая лишку,
когда припрут хозяева земли:
«Здесь нет его – откидывайте крышку,
и вообще – туда ли вы пришли?»
Здесь осень поминают аква-витой,
небесный саркофаг свинцов,
и по тропинке зябкой, непобритой
спецы ведут спецов.
Брат
Едва я выбрался из книг,
разгреб предлоги и союзы,
открыли рыбий бургер-кинг
у побережья Лампедузы.
Гуляй, прославленный сибас,
не отставай и ты, дорадо.
Готовы лучшие для вас
корма из Ливии и Чада.
Мне говорили, он мой брат
и между нами будто узы.
Он третьи сутки нарасхват
у побережья Лампедузы.
Лодыжки съел ему тунец,
семья сардин вцепилась в бедра.
Ему акула, наконец,
предплечье отхватила бодро.
Покуда я смотрю в окно,
любуясь хлопьями в апреле,
он опускается на дно –
та часть, которую не съели.
К нему подплыл какой-то скат
и хлещет искрами по коже.
Мне говорили, ты мой брат,
мы генетически похожи.
Мы – человечество. Мы свет
Вселенной, соль ее и слава.
Меня сжирает интернет,
тебя – зубастая орава.
Али? Мохаммед? Абдалла?
Весь мир – твоя-моя держава.
Ты – брат. Такие, брат, дела,
как нам пропел бы Окуджава.
Уж не видать тебе халвы
и Европейского союза.
Тучнеет рыба с головы
у ресторана Лампедуза.
Но туристический сезон
дождется свежего улова,
и под санремовский музон
брат братом насладится снова.

Королева ужей
«Мало времени, – думает, – времени нет,
остаются тоска и привычка».
Но из горла карабкается на свет
безголосая дева-певичка.
А прислушаться – в голосе все-таки есть
что-то тонкое, колкое: перья
вместо ватмана бегло царапают жесть,
и судьба ошибается дверью.
Это раненый голос кукушкина льна
озарил шелковистые склоны,
и сквозь ветви на убыль несется луна,
за себя оставляя дракона.
Что же делать? Бежать на вокзал, брать билет
или так, без билета, прокатит?
Только мы уж решили, что времени нет
и на новые главы не хватит.
Этот голос – дорога: темна, далека,
и нет веры тому кривотолку,
как под утро четыре вальта-жениха
подступили к лесному поселку.
Пусть их дождик с околицы гонит взашей,
распекая морзянкою доски,
и гуляет одна королева ужей
и из подданных вяжет авоськи.
Голос
С тобой беседует природа,
меня ругают господа.
Я буду голосом народа,
а ты не будешь никогда.
Я буду мелкого народца,
лесного, злого, в три уродца
настырный ломкий голосок,
но хоть какой и хоть какого.
А ты найдешь златое слово
и вместе с ним уйдешь в песок.
Народ мой прячется за пнями,
кричу ему «ау-ау»
и, спотыкаясь в каждой яме,
иду с сачком, в смешной панаме
к народу моему.
Домой
Беспощадная фантастика,
русская, как боже мой,
всё стирающая ластиком;
вечно хочется домой.
Дома пили чай с баранками,
и опять домой хочу
всеми ссадинами, ранками,
непоказными врачу.
Через лес тропа знакомая,
вот и двинемся по ней,
с каждым домом всё бездомнее,
с каждой клеткой всё вольней.
Что же, сердце, подытоживай
прямо в дверь свое тук-тук,
где отец с лицом прохожего
ждет меня с обеих рук.
Окна
мы дверь закрыли так неплотненько
что сквозь нее идет сквозняк
и рядом сели так бесплотненько
и так бесплотненько и так
пред нами рюмочки прозрачные
за ними кушанья невзрачные
а в центре перец соль и хрен
мы виды на поселки дачные
на лес и всяческую хрень
мы окна в грозную сирень
мы окна вымытые гордые
мы стекла только что протертые
мы ждем кого-то здесь четвертого
мы звон фамильного стекла
в буфете выжженном дотла
Беда
Неся на деснах привкус пораженья,
мы отступали, ибо русский Бог
нам не дал генерального сраженья
и не позволил подвести итог.
В итоге мы катились на восток,
и орды, будто волны, шли за нами,
и на схожденьях выцветших дорог
нас валуны стращали письменами.
Придешь оттуда – быть тебе с бедой,
придешь оттоль – посеешь честь и славу.
придешь по этой – сгинешь молодой,
придешь по той – отведаешь отраву.
И ночью под ярчайшею из лун
я счастлив был – беда была со мною!
Я снова был мечтателен и юн,
и чувства, точно орды, шли волною.
Я много мог, побольше, чем страна,
я восстанавливался на два счета,
и стоном отвечала мне она –
моя беда, последняя работа.
У нас на всех была одна беда –
такая шлюха, господи помилуй.
Мы возвращались в наши города,
разя ее духами, как могилой.
Ветер
что делает ветер с моей головой
дворы малой бронной дворы моховой
где курево ныкал гонял голубей
сережка мазепа витек кочубей
что делает ветер веселый злодей
уносит на север гусей-лебедей
сережку и витьку уносит на юг
пусть там разбираются враг или друг
исшептаны уши приказом «убей»
стреляет мазепа разит кочубей
подъезд за подъездом и двор за двором
усыпаны их голубиным пером
что делает ветер? он свищет в полях
в пустых поллитровках и трех топорах
и крутит моей головой голубой
в которой мы вместе в которой с тобой