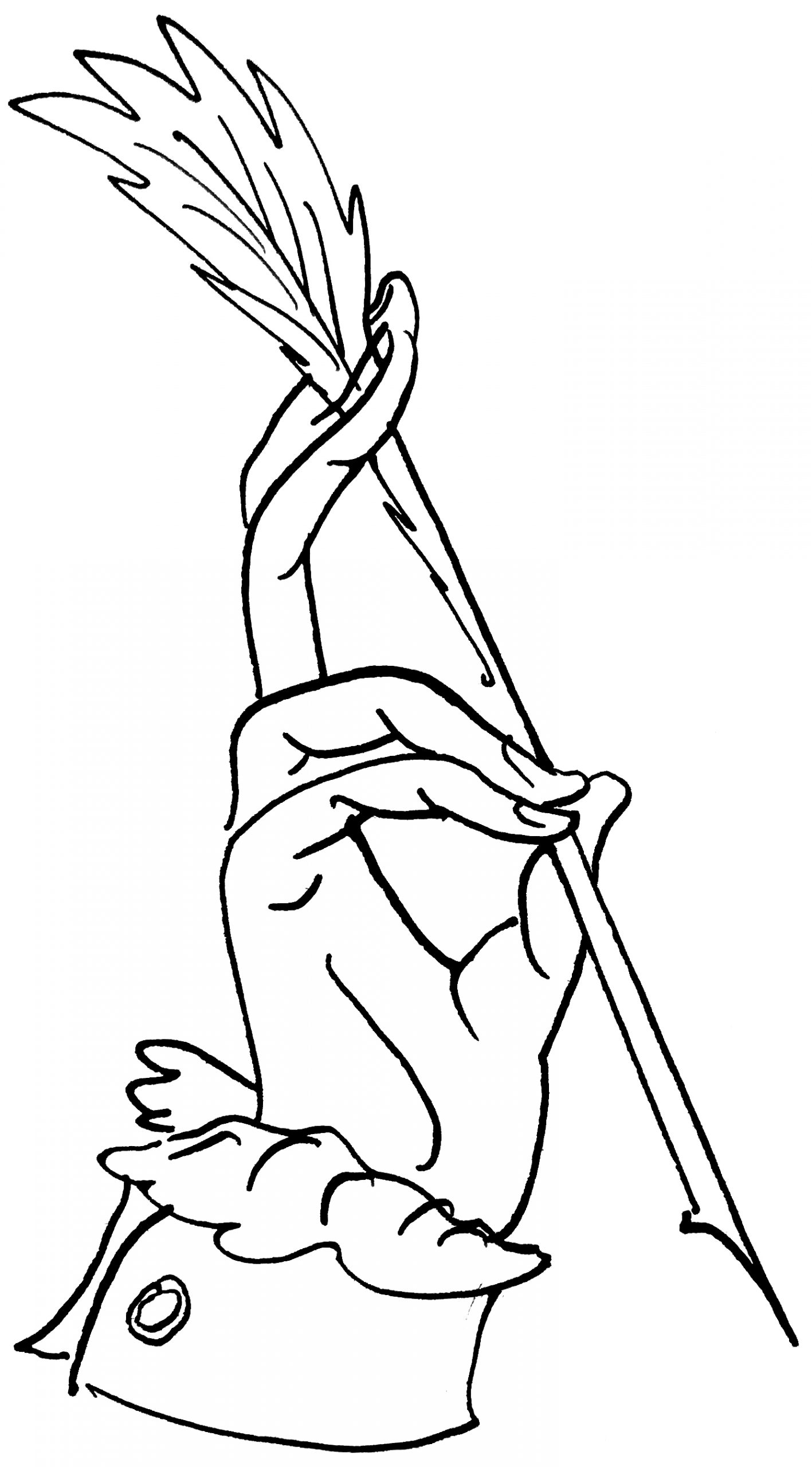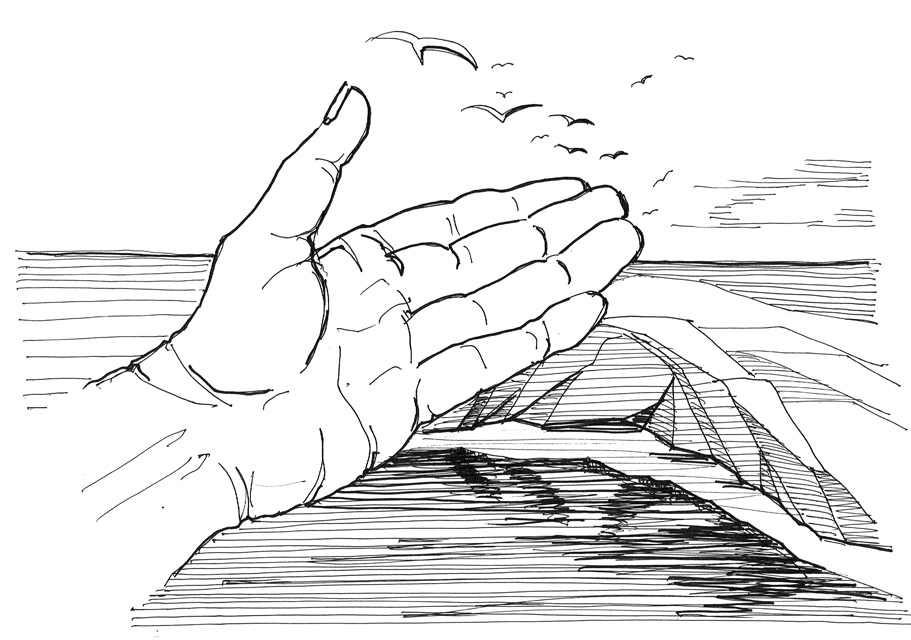Ландшафты Бога
***
На крестовине укрепляю шест
и надеваю крону. Веток шесть
на каждый ярус – юбка из хвои.
Но только начаты труды мои.
Еще гирлянды многоглавый змей,
с макушки донизу хвою обвей,
а вслед – за хвост товарища держа,
удавами сползает мишура.
Теперь игрушки. Шар, звезда, олень…
Цветные побрякушки – глубже в тень.
А этот ветхий красный тамбурин –
поближе к свету: он такой один.
Ну вот и всё. Я в темень отойду.
Вернусь. Поправлю ангелу дуду.
Два шага вспять и снова два вперед.
Наверно, так же медлит Новый год.
***
Не горы покоряются, а страх
подняться выше и при виде бухты
(так видят чайки в гнездах на камнях)
промолвить «ух ты».
Твоя боязнь не больше, чем гора,
покатая и с тропкой каменистой.
Венчай, пока не началась жара,
победой приступ.
Там, наверху, свободный ветерок
излечит мнительного акрофоба,
и ты увидишь то, что зрит пророк:
ландшафты Бога.
***
Интернет то и дело рушится
от потока зеленых снимков.
Я закрыл ноутбук. Прислушался,
как щебечет с дождем в обнимку
не модем, а ночной, взъерошенный,
архаический соловей.
Но уже и модем из прошлого.
Мегабайты и дни скорей
с каждым годом текут по проводу.
И опять наступает лето.
И поет по ночному поводу
соловей, что не канет в Лету.
Бабочка
На притолоке спит в подъезде
так много дней, что каждый раз,
входя, смотрю: еще на месте
она, укрытая от глаз?
Еще на месте, слава Богу.
И подниматься веселей,
и выходить, на недотрогу
взглянув у скрипнувших дверей.
Вцепившись в крашеную доску,
как мрак под лестницей, черна,
шаги, и голоса, и воздух
снующий чувствует она.
На лацкан микрофон петличный
так крепится, чтобы затем
его забыли после спича
в шероховатой темноте.
И так же цепко, без усилья,
она притягивает взгляд.
Рисунок прячущие крылья
слепой изнанкою сквозят.
Я не прошу иного чуда
от неприметного пятна:
подкараулить бы минуту,
когда раскроется она.
***
Этой осенью трудно дышать.
Лист дырявый на ветке трепещет.
И с опаскою смотрит душа
на привычные милые вещи.
Целый день, домоседка, одна.
Укрываясь накидкою серой,
то и дело следит из окна
за тридцатой летучей премьерой.
Ковыляет обратно к столу,
к переглядке чугунных фигурок
Дон Кихота и черта, к теплу,
где впотьмах дотлевает окурок…
Старый добрый домашний уют,
жизнь обычная – что еще надо?
Да и много ль осталось минут
до решающего листопада?
***
Букет соломинок цветных,
стаканчиков картонных башни –
в кафе не замечают их
и вряд ли хватятся пропажи.
Тот круглый столик у окна,
лишь курткой занятый покуда,
ту праздность, что на день дана,
то промедление фастфуда,
те не сдержавшие пока
вечерний свет сквозные ветки –
кради, бегущая строка.
Всё пригодится. И салфетки,
и голуби, и воробьи,
летающие по террасе,
и терпеливые бои
на подступах к голодной кассе.
«Зачем?» – ты спросишь. Скажем так:
чтобы наполнить этот вечер,
идущий в невозвратный мрак,
сопротивляющейся речью.
***
О. А. Легочкину
Сегодня улей потолстел.
Весы показывают прибыль,
и жизнь чередованьем дел
наполнена, и домик прибран.
Снимает сетку пчеловод
и радуется распорядку:
довольно корму, есть приплод,
пчела летит за сладким взятком.
А завтра – ливневая хмарь
на пасеке косой насечкой,
и пчелы скрылись, и дымарь
с гнилушками стоит на печке.
Наутро улей похудел.
Весы показывают убыль,
но жизнь чередованьем дел
наполнена, и пахнут губы
цветов, и маленький народ
летит с прилепленной обножкой
закупоривать новый мед
во мрак ячеистый, сторожкий.
***
Утро туманное, праздник замши,
воспоминанье иных эпох –
день, что ни на день других не старше
и не печальней, а так, неплох.
Утро седое, где всяк не узнан,
всяк романтичен и близорук.
В легких плащах проплывают музы,
экий во времени сделав крюк!
Белые сумерки прошлых дней,
слепо глядящих издалека.
Что есть поэзия, если не
приватизация языка?
***
Lugete, o Veneres Cupidinesque…
Catullus*
Разобранный домик, теперь уже клетка.
Кормушки, кольцо с колокольчиком, сетка,
поддон и ребристые длинные жерди –
всё вынуто вследствие маленькой смерти.
Пустует жилье. Ни пера, ни помета,
ни пуха, ни зернышка – только свобода,
оставшаяся от сквозного уюта,
да вымытый блеск с холодком абсолюта.
Ни крыльев-индиго, ни свиста, ни крика.
На холмике пластиковая гвоздика,
что куплена за три рубля на базаре,
стоит до сих пор у тебя пред глазами.
Как смерть на падежную рифму похожа,
на опись предметов, на домик порожний
в углу нашей солнечной траурной кухни,
где счетчик скрипит своим перышком глухо.
*Плачь, Венера, и вы, Утехи, плачьте! Катулл. Перевод А. Пиотровского
Спонсоры рубрики:
Алексей Жоголев
Андрей Клочков