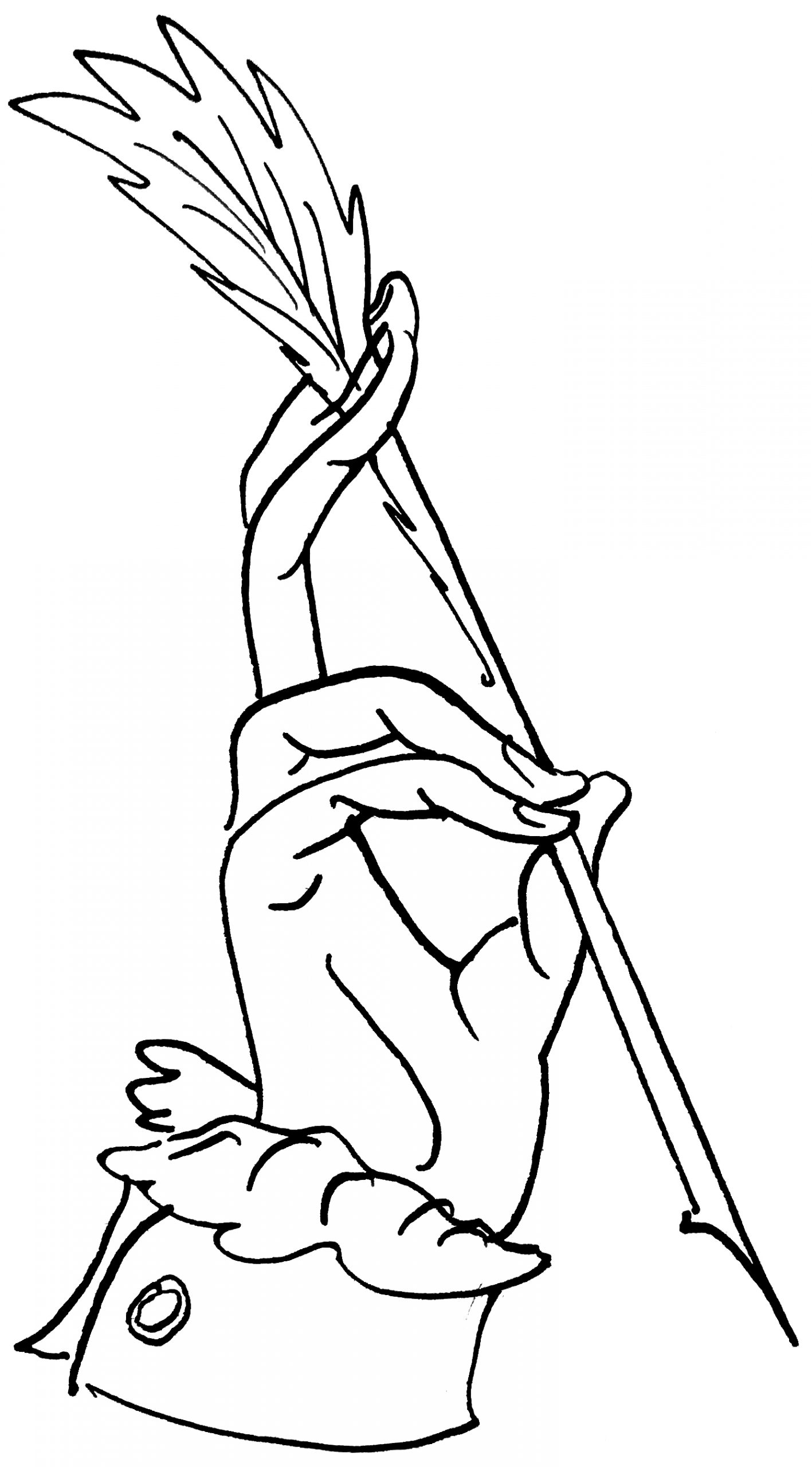Нежность к вещам и событиям мира
Нине
Падает крохотный свет
на переводные картинки.
Вот ты не застала кассет,
а я ещё помню пластинки.
И отрывной календарь
в убогих картонках корок.
Там был настоящий январь:
свобода и минус сорок.
Там тонкое время плыло
и дальше хотело плыть.
И много такого было,
что больше не может быть.
Там телик показывал
меньше одной программы,
там дядька привязывал
велик на берегу.
Музыка кончилась, мама домыла раму.
Зайцы попрятались в ненастоящем снегу.
***
Вроде еще разбег,
а вроде уже ползем:
вот это еще человек,
а это уже чернозем.
А это опять человек,
только совсем другой.
Вроде закончился век,
вроде продолжился бой.
Вроде такая дрянь,
что вообще никуда.
А вроде цветет герань,
и в лужу летит звезда.
Инфаркт
Или метафорически –
самолет оказался одномоторным.
Станция Пермь-1
Комкая стаканчик одноразовый,
золотая девочка сказала:
«Я люблю тебя, как брата Карамазова».
И поцеловала.
Над вокзалом плавилось огромное –
над простым и над речным вокзалом.
«Я курить пять раз уже бросала», –
золотая девочка сказала.
А в ресницах славное и темное.
Времена стояли вездесущие.
Место, если кратко, было скверное.
Я боялся по трусливой сущности,
девочка надеялась, наверное.
Девочки надеялись, как жили:
эта вот хотела не со зла,
чтоб меня как следует побили,
а затем она мне помогла.
Словом, барышня весьма желала смелости.
(Гопники гуляли, солнце жгло).
Я хотел, чтоб ничего не сделалось –
ничего и не произошло.
За реку огромное уплыло,
Время обратилось в самолет.
Ничего и не происходило.
Ничего и не произойдет.
Конспект
Роскошно буддийское
О.Э.М.
Разное сочиняешь, буковки сочленяешь.
Льдом под ногами хрупаешь, сухариком хрумаешь.
Дело всякое делаешь. Засим устаешь, засыпаешь.
Просыпаешься, дело всякое делаешь. Думаешь.
Думаешь про недеяние, про иллюзорную сущность зла.
Трусишь, однако – вновь всякое делать стараешься.
Просыпаешься, а в доме твоем занавешены зеркала.
Да не очень-то и просыпаешься.
Трактат
А книжка оказалось, что ничья.
Там на странице три такое место:
«Небытие… руками бытия…»
Нет, дальше тоже очень интересно,
Но это вот: «руками бытия…»
Ведь Уроборос бытие, сиречь – змея.
Какие руки, Боже мой? Какие руки?
Небытие – зола, позор, земля,
Паучья банка обреченной скуки.
А тут они – невидимые руки.
«Небытие… руками бытия…»
А после за тобой придет твоя.
Тихонько так: «Не бойся, это шутка».
И полетишь, пилот без парашюта,
В подставленные руки бытия.
Перышко
Желтым метет, метет.
Что не прошло – пройдет.
Только совсем стальное
не превратится в лед.
Воздух к двери бежит,
пыль на окне лежит.
Светлое, неживое
в теплой руке дрожит.
Взрослые ждут врача,
комната горяча.
Кто прилетал за тобою
и не задел плеча?
Перерыв
Было хорошее и перестало,
правда, не так, чтоб совсем помирать,
но раньше на матч двух бутылок хватало
Балтики с номером два или пять,
нынче же надо Московской ноль-пять:
только завинтишь, а хочешь опять.
Нет, не спиваемся: сборная стала
хуже гораздо играть.
На длинном перегоне
Человек читает человеку –
дочке или присмотреть просили.
Запыхавшись, точно после бега,
говорит на память, но с усилием.
Паузы совсем не там, где точки.
Так читает, как по лужам скачет.
Толстенький, в дубленке, а вот дочка
плакала, теперь зато не плачет.
Он читает медленно и нудно,
Ошибаясь пьяно, человечно:
«В небесах торжественно и трудно…»
Впрочем, и в иных местах не легче.
Рессентимент
Июльский день начался очень интересно:
хоронили генерала.
М. Горький
Вдруг получится, как в прошлом,
чтобы как в кино и в песне:
чтобы грустно, чтобы пошло,
чтобы правда интересно.
Чтоб не медные, но скрипки,
чтоб не марши, но рыданье,
чтоб под нервные улыбки
в землю гробополаганье.
Чтоб не гроканье воронье,
но скрипичная канцона.
Чтоб спросил: «Кого хоронят?»
незнакомая персона.
Чтобы скрипка пела, пела,
чтоб как будто из груди:
«А тебе какое дело?
Не тебя – так проходи».
Так сидишь себе, мечтая,
сам в себя уверенный,
А мороженое тает.
Просто так. От времени.
Хоть так
Лучшие сервировки в теннисе случаются перед двойной
очень нелепой и крайне финальной ошибкой.
Лучшие дети рождаются перед большой войной:
светящиеся такие, такие беззубые рыбки.
Растут как растут, но довольно много болеют:
не обязательно, чтобы опасным, скорее – плохо вообразимым.
Конечно, их все жалеют. Еще потому жалеют,
что хуже других болеет самый красивый.
На фотоснимках у них не мордашки, но лица:
есть дальний свет, так вот у этих взгляд такой – дальний.
А вообще, разумеется, дети как дети. Смеются, тянутся к маме.
(Все обойдется. Войны не случится.
Дети получатся очень обыкновенными нами.
Двойная ошибка окажется не фатальной).