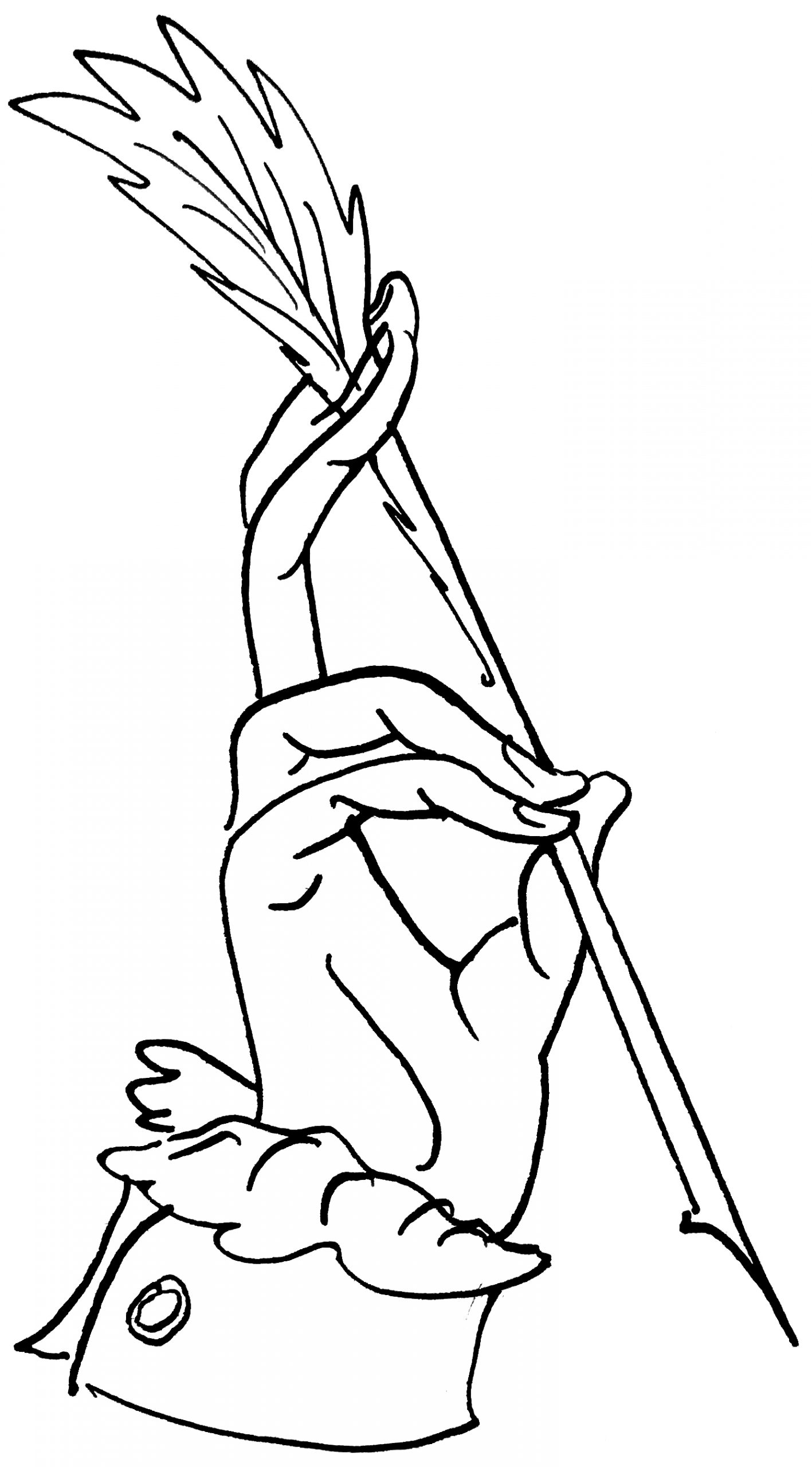Судьба книгочея
***
Утро туманное, праздник замши,
воспоминанье иных эпох –
день, что ни на день других не старше
и не печальней, а так, неплох.
Утро седое, где всяк не узнан,
всяк романтичен и близорук.
В легких плащах проплывают музы,
экий во времени сделав крюк!
Белые сумерки прошлых дней,
слепо глядящих издалека.
Что есть поэзия, если не
приватизация языка?
«Milk&Honey»
С протяжным хриплым звоном five o’clock
бьют ходики в кофейне «Milk&Honey»,
и в подвесных оленях потолок
дрожит, чего не рассчитал механик
гнездовий, лавочек и полутьмы.
Меню на грифельной доске винтажной –
его старанья оценили мы.
И сумеречный свет звезды витражной,
и книги, и картины в тесноте,
зеленый чай, с соломинкою латте…
Случись в печали, горе иль беде
мне оказаться, сумрак тесноватый
в кофейне этой выберу скорей,
чем строгий полусвет в холодном храме.
Хозяин, меда с молоком налей
еще, чтоб не кончалась «Milk&Honey»!
***
В светлом кругу, что в кругу меловом,
я очертил за рабочим столом
скрытую жизнь и судьбу книгочея.
Был одинок и любил горячее
в сумрачной комнате, клетке, стране
книг непрочтенных, не ясных вполне.
Детским неведением отгорожен,
втайне хотел быть на книги похожим.
Всем восхищенный, вперялся в листы –
поздний читатель среди темноты.
***
Когда ты улыбаешься
другим мужчинам
или смеешься с ними
в соседней комнате,
что-то внутри
сжимается,
умирает.
Но я молчу –
и получаю потом улыбку
и нежный смех
стократно.
***
Lugete, o Veneres Cupidinesque…
Catullus*
Разобранный домик, теперь уже клетка.
Кормушки, кольцо с колокольчиком, сетка,
поддон и ребристые длинные жерди –
всё вынуто вследствие маленькой смерти.
Пустует жилье. Ни пера, ни помета,
ни пуха, ни зернышка – только свобода,
оставшаяся от сквозного уюта,
да вымытый блеск с холодком «Абсолюта».
Ни крыльев-индиго, ни свиста, ни крика.
На холмике пластиковая гвоздика,
что куплена за три рубля на базаре,
стоит до сих пор у тебя пред глазами.
Как смерть на падежную рифму похожа,
на опись предметов, на домик порожний
в углу нашей солнечной траурной кухни,
где счетчик скрипит своим перышком глухо.
*«Плачь, Венера, и вы, Утехи, плачьте!», Катулл. Перевод А. Пиотровского
Н. В.
Давай-ка изоляцию нарушим,
обнимемся, я за руку возьму
тебя – два интроверта, две норушки,
вдвоем гулять по набережной лучше,
чем на воду глядеть по одному.
Пускай загадочны в речном потоке
ручьистые кривые письмена,
бок о бок кормим птиц, и снова в блоге
(да не прогневаются рыбьи боги)
счастливая изнаночка видна.
Давай-ка одиночество разрушим,
как рушится фонтан в сияньи брызг.
На солнцем залитой скамье друг к дружке
придвинемся – пусть отвернется Пушкин
чугунный, чайка сдержит влажный визг.
***
Этой осенью трудно дышать.
Лист дырявый на ветке трепещет.
И с опаскою смотрит душа
на привычные милые вещи.
Целый день, домоседка, одна.
Укрываясь накидкою серой,
то и дело следит из окна
за тридцатой летучей премьерой.
Ковыляет обратно к столу,
к переглядке чугунных фигурок
Дон Кихота и черта, к теплу,
где впотьмах дотлевает окурок…
Старый добрый домашний уют,
жизнь обычная, что еще надо?
Да и много ль осталось минут
до решающего листопада?
***
Интернет то и дело рушится
от потока зеленых снимков.
Я закрыл ноутбук. Прислушался,
как щебечет с дождем в обнимку
не модем, а ночной, взъерошенный,
архаический соловей.
Но уже и модем из прошлого.
Мегабайты и дни скорей
с каждым годом текут по проводу.
И опять наступает лето.
И поет по ночному поводу
соловей, что не канет в ленту.
***
Букет соломинок цветных,
стаканчиков картонных башни –
в кафе не замечают их
и вряд ли хватятся пропажи.
Тот круглый столик у окна,
лишь курткой занятый покуда,
ту праздность, что на день дана,
то промедление фастфуда,
те не сдержавшие пока
вечерний свет сквозные ветки –
кради, бегущая строка.
Всё пригодится. И салфетки,
и голуби, и воробьи,
летающие по террасе,
и терпеливые бои
на подступах к голодной кассе.
– Зачем? – ты спросишь. – Скажем так:
чтобы наполнить этот вечер,
идущий в невозвратный мрак
сопротивляющейся речью.
В. Н.
Ты можешь мне сказать наверняка,
о чем скрипит садовая тележка,
когда, нагруженную, с родника
везешь трусцой и шагом вперемежку
по пыльной, в камушках и колеях,
тропе вдоль сосен, коими на небе,
за неимением досужих птах,
взгляд полнишь из-под сплюснутого кепи?
Гудит, как под вагоном, колесо,
в ладони давят стиснутые ручки,
и смуглое колючее лицо
усами улыбается, везучий
поход мне подарив: я за рога
берусь катить певучую повозку.
Теперь и мне вон та сосна близка –
с покатой, точно пагода, прической.
Под говорок игрушечной арбы
мы въехали в сосновый перелесок
близ лесопилки, где стволы грубы
и выпиленный воздух сух и резок.
За лесом – дом, кирпичная сова.
В дверях девчонка в платьице кургузом
приезжим машет и бежит сама –
сгружать канистры и забраться в кузов.
Ребенку
(из Фанни Стернс Дэвис)
Твоими друзьями будут
Дерево, ветер, река,
Смех солнца, плывущего в небе,
Ласточки и облака.
Твоими молитвами будут
Шепот травы под дождем,
Напевы дроздов в чащобе,
Которыми Бог ублажен.
Ты будешь бегать на воле,
Бродить, и мечтать, и петь
О светлой стране в такой вышине,
Что ласточкам не долететь.
От завистливой злобы,
От боли, что старит сердца,
Сохраню твою юность, чтобы
Ты принял мудрость Творца.
Горный ветер, деревья и реки
Будут тебе друзья,
Смех плывущего в небе солнца,
Ласточки и моря.
Спонсоры рубрики:
Алексей Жоголев
Александр Дятко