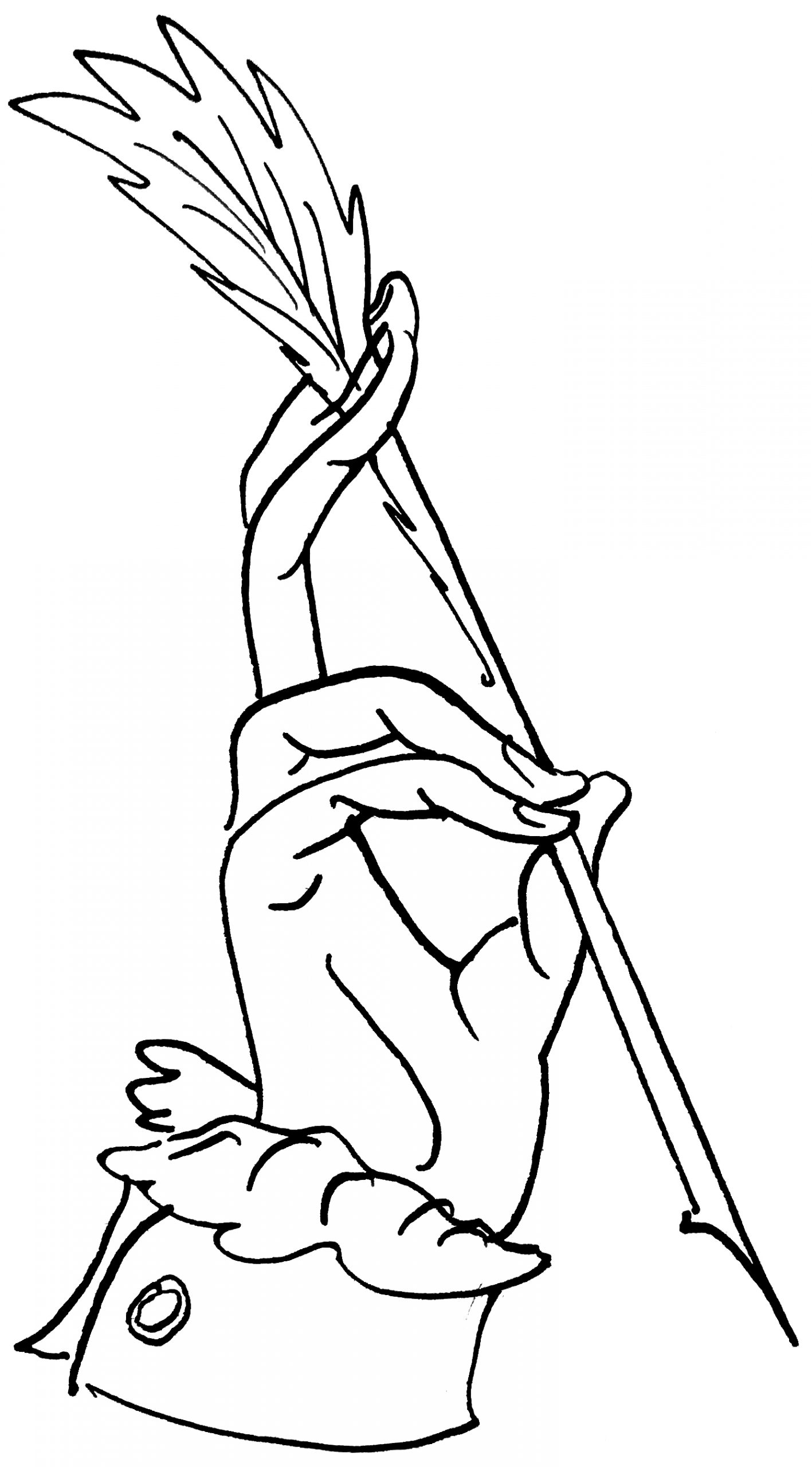Я и ты
***
Плетется узор красными нитями,
у нас ничего, кроме времени, нет.
Сад засыпает, с желтыми листьями
ложится в обнимку снег.
И хрусталем люстра в гостиной
сияет торжественно и легко,
я чувствую себя кусочком глины,
лоснящимся под твоей рукой.
У нас с тобой ничего, кроме времени,
помнишь, в сегодняшнем ноябре
рассветная гладь застилала окна
и пряталась в серебре.
Я помню то время, как будто воскресла,
как будто иссякла печаль.
Теплом наших тел наполнялись кресла,
кипел на веранде чай,
варился шиповник, и в сахаре клюква,
как сердце, обваленное в снегу.
я, вечно ищущая свои буквы
и вечно теряющая к четвергу.
А тут запереться снова в доме,
на время, изредка выходя.
Деревья сверкают в оконном проеме,
и ветры в камине гудят,
ноябрь тягучий, с неясной горчинкой,
сердце подщипывающий, как мед,
и время, застывшее на фотоснимке,
там беспрерывно идет.
И только оно, ни мало ни много,
плетется, как кружева,
и свет нашей люстры отзывчив и легок,
и я бесконечно жива.
***
Рюмку достал человек из буфета,
причмокнул, лекарство хлебнул от запоя,
присел на диван, открыл газету
и понял внезапно, что сдался без боя.
Уснул глубоко и на утро проснулся,
на мир посмотрел отрешенно и вяло,
поел, что-то выпил, оделся, обулся,
и странное чувство его обуяло,
что он абсолютный увалень мира,
что жизнь прокипела, как утренний чайник.
Прошел два квартала, вернулся в квартиру,
а всё как и раньше, темно и печально,
и по привычке зажег конфорку,
чайник поставил, чтоб потеплело,
и стало на время опять комфортно,
и чай по привычке расслабил тело.
Что было то было, что будет то будет,
и главное – вовремя отвернуться
и не смотреть туда, где болело,
и вовремя встать, одеться, обуться
и снова пойти, чтоб пройти два квартала,
и встретить случайных ненужных знакомых,
и с ними лекарства хлебнуть по бокалу,
и главное – дружно не выйти из комы.
А выйдешь – а там одиночество стынет,
стоит на плите, как остывший чайник,
и вспомнишь внезапно, что всё опостылело
и вся твоя жизнь – это крик отчаяния.
И тут человек взбунтовался, хмелея:
ну нет, всё к чертям, не сдаются без боя,
и вместе со снегом кружится аллея,
и сердце поет и сочится любовью.
В хорошем рассказе всё так и бывает,
сплошной хэппи-энд и счастливые люди,
и мчатся по городу звонко трамваи,
и тают снега для весенних прелюдий.
***
Мне хочется свернуться кошкой
и уснуть, зажмурившись, на твоей груди,
Пушкин перед смертью просил морошку,
а я бы просила, чтоб меня никто не будил,
в плечо, как в подушку, уткнуться мордой,
спрятав когти и кошачью спесь,
и наслаждаться тем, что ты гордый,
сильный и нравишься весь,
как с мороза прийти и греться,
домашней сделаться и живой,
и лежать, и мурлыкать бы в область сердца,
и опрокидываться в него с головой,
и жить там, где сосны и звезды низко,
особенно зимой,
я ни с кем до тебя не была так близко,
и ни с кем – далеко, как с тобой.
***
Я приду к тебе после обеда,
устало сниму чулки и корону
и встану в комнате против света,
и посмотрю, как богоматерь с иконы,
и ты посмотришь сочувственно и вздохнешь всем телом,
я пробуду немного и уйду скоро,
я и приходить, наверное, не хотела
и каждый раз ухожу с прискорбием.
Всё меня тянет в твой дом магнитом,
медом намазано и пахнет щами,
и можно зубы не чистить и ходить неумытой,
и не отягощаться подобными вещами.
Как-то легко мне всё дается,
тут у тебя царит безвременье,
чайник над газом всё время трясется,
и мы всё время едим варенье.
Отдушина ты и твоя квартира
для поездов как я – дальнего следования,
никаких обязательств, готовки, стирок,
никакой ревности и маний преследования.
Снимаю чулки и бросаю якорь,
на пару часов или на сутки,
без объяснений, без трындежа, без якания,
без отмачивания пошлых и пустых шуток,
лежу на кровати как есть, голая,
курю в потолок и стихи читаю,
мы с тобой абсолютно бесполые,
как две перелетные, отбившиеся от стаи.
Теряемся, как в космосе, в этой хрущевке,
нагие, странные и многознакомые,
варенье жрем банками из кладовки
и перемещаемся из комнаты в комнату,
как кометы, я так точно, дымящая,
мне бы уже и не уходить и просто остаться,
я только тут, у тебя – настоящая,
я только тут могу бесполости не стесняться.
***
Небо расшаркано моими подошвами,
в лужах стоять небу мешаю,
серый дворняг тычет мордой в ладоши,
я как могу его утешаю.
Миленький, брошенный, кем-то не гуленый,
дать бы пожрать, да, прости меня, нечего,
я бы слетала в магазы пулею,
но и купить мне в магазах не на что.
Что нам с тобой остается – ластиться,
небо под нами, над нами общее,
и ведь, похоже, такой же масти ты,
так же остался за рамками общества.
Родненький, миленький, чем позабавиться,
ухо могу потрепать не застенчиво,
мне бы самой от стесненья избавиться,
но этой серостью будто помечена,
лапы хромают, морда измучена,
тыкаюсь в души за утешением,
наша природа с тобой не изучена,
нет у науки по нам решения.
Так вот и тычемся по перекладинам,
перекладными и перешейками,
и у меня такая же ссадина,
только под грудью, а не под шеею.
Видишь, как мы в одночасье похожими,
кровными сделались, связаны узами,
так и сидим и следим за прохожими,
так и сочимся глазками узкими.
Милый, мой родный, пригожий, мой ласковый,
взять бы тебя на совместное жительство,
с вилки делиться каким-нибудь лакомством
и не взирать на погром и вредительства,
только саму меня давеча выгнали,
слишком лающая, слишком скулящая,
и на изнанку как будто вынули,
и не увидели, что настоящая.
***
Открой и пролистай страницу за страницей
мой многотомник, написанный богом,
я вижу ты устал, искал журавля, а нашел синицу,
и вот я лежу сейчас тихо и соплю под боком.
Лежу на столе фотографиями и письмами,
просроченными и без срока давности,
я вся перечеркнута, богом сто раз переписана,
а главное – он так и не сказал главного.
Теперь пылью покрыться и слоем плесени,
если ты не притронешься, если отвергнешь,
как в пролеты врезалась, влетала в лестницы
и неслась без оглядки, вся исковерканная.
Теперь места чистого не осталось,
писать богу не на чем,
я бы только и сделала, что под боком осталась
и рассыпалась по твоим карманам мелочью,
и лежала за пазухой,
звенела предплечьями,
то наводнением миру, то засухой,
и только для тебя одного – вечностью.
***
В воздухе разливаются молитвы,
как туман от влажности и тепла,
голос мой прокуренный, сиплый,
я этим голосом всю себя раздала,
по крупицам, по горошинам,
себе себя не оставив.
Голубями всё небо взъерошено,
и за парком цокот трамваев
слышится будто сердцебиение,
в них куда-то людей уносит.
А я всё думаю, чьих это рук творение,
эта невообразимая по наготе осень,
и думаю, до чего мы дожили,
растранжирились до позвоночника,
а вот же он, поцеловавший себя художник,
корпящий денно и нощно.
Его листьями я устраиваю праздник,
салютую деревьям в их обнаженке,
его легкими в себе дышу праздно,
в его теле, как в распашонке,
живу, и другого не остается,
только вдыхать его и молиться,
и слушать, как он смеется
и раздает себя по горошинам и крупицам,
и в макушку целует каждого из нас солнцем.
***
Что мы ищем друг в друге,
не вечное ли утешение?
Сидим на крыльце
и молча вздыхаем,
небо снует над нами,
апрельское мельтешение,
птицы в разлет
и снова кучкуются в стаи.
Видишь, стволы
так приветливо машут ветвями,
снег развезло от любви
и ее предвкушения,
где бы мы были сейчас,
что творилось бы с нами,
если б не эта весна,
и твое, и мое утешения.
Так и сидели бы порознь,
листали книги,
чай допивали остывший,
скучали, ели.
Хочется сильно варенья из земляники,
хочется сильно проснуться
в одной постели.
Так не бывает,
сомкнулись и разомкнулись,
так не должно быть.
Небо снует грачами.
ветки стволов мне в самое сердце уткнулись,
стань же моими недрогнувшими плечами,
стань же моим
никогда не ушедшим гостем,
стань молчаливым присутствием
и утешеньем.
Небо рассыпало птиц великанской горстью,
разбарабанило дробь
и пришло в движенье.
***
Невыносимо хочется весны,
она придет и расплескает светом,
когда я в комнате и буду не одета,
и мы вдруг снова станем влюблены,
разгладим локоны в одну большую прядь,
сплетем запястья, как тугие косы,
лицом к лицу, когда не устоять,
лучом пронизаны насквозь, нежны и босы,
и пол зальется светом и теплом,
и ветром тюль как знаменем развеет,
буфет задребезжит резным стеклом,
и розы на столе зарозовеют,
весны хочу, где страстно и легко,
где пробуждение, прозрение и тяга,
где люстра кружится себе под потолком,
где два луча на пол в обнимку лягут.
***
Зима старалась в январе и заметала все следы,
я в новом платье на дворе, и так недолго до беды,
и ветер дует под подол, ах, как не подхватить простуд,
и вот уже зовут за стол и мило подставляют стул,
я в новом платье без кальсон, забыла, что в этой дыре,
а может, это просто сон, уснула в прошлом январе,
и вот присяжные все в ряд, как не ударить в грязь лицом,
и на столе, похоже, яд, так просто хряпнуть и с концом,
и дело в шляпе и в коте, и что здесь я, черт побери,
осталась в полной срамоте у самой крошечной двери,
и чаем прямо льют на стол, и шляпу всю проела моль,
и кто-то лезет под подол, наверно, это белый кроль,
не обнаружила кальсон, и платья тоже след простыл,
и это всё безумный сон, в котором потеряла стыд,
зима старалась в январе, гнала, гнала, гнала пургу,
и я по кроличьей норе бегу-бегу, бегу-бегу.
***
Нам надо ложечкой соскрести мед,
со дна мироздания соскрести,
раз уж так вышло, что каждый из нас умрет,
но до того еще грести и грести.
Не унывать, даже если печаль в лицо,
через оконные щели и сквозняком,
эта земля, похожая на яйцо,
нам надо только в нее ничком.
И замереть, и полежать в траве,
все поедая и превращаясь в пыль,
ветром повыть и погудеть в голове,
головы растрепать, как связанные снопы.
Всё. И настроиться на тишину.
Сны тебе снятся такие же, что и мне.
Здесь каждый выдох возносится в вышину,
здесь каждый вздох как рыба на глубине.
***
Нимб голубой у осеннего неба,
я сегодня слегка нетрезвая,
купить в магазине хлеба бы
и желательно нарезанного,
все ножи затупились в доме,
подражатели хреновы.
Доктор, доктор, я вам на приеме
отдаюсь отчаянно венами
и грудями дышу отчаянно,
так, чтобы не заподозрили,
меня столько раз уличали вы
и кололи слоновьими дозами.
Хватит, всё, не хочу я, не буду я,
притворюсь здравомыслящей, праведной,
облака свысока смотрят Буддами
и твердят, что живу неправильно.
Мне на вас, облака, фиолетово,
мне б добраться к Нему по лестнице,
я сейчас пойду за билетами,
ахинеей и околесицей,
а вы летайте себе незрячими,
ковыряйтесь в деревьях и радугах,
и меня с моею горячкою
стороной обходите радостно.
Вы поймите: к Нему мне следует
отнести себя на лечение,
тридцать лет я хожу за билетами,
и всегда обстоятельств стечение,
и всегда кто-то с нимбом шефствует,
и крестами, и внутривенными,
тридцать лет это буйное шествие
содрогает моими стенами,
тридцать лет я свое нетрезвие
заливаю настойкой анисовой
и туплю настойчиво лезвия,
а к Нему – на роду написано.
И сегодня опять за билетами
и опять ошибаюсь кассами,
где кассиры всегда неприветливы,
где ответы общими фразами,
я, когда-то живая, смелая,
на глазах прогораю спичками,
а когда-то к Нему не хотела я,
а сейчас позарез приспичило.
***
Сегодня зеленой лужайкой
мне мама щекочет ноги,
сегодня мама хохочет,
сегодня я та из немногих
счастливиц, у мамы в пальцах
запуталась, словно в ветках,
она зовет меня «детка».
А я уплетаю в щеки
горячие поцелуи с горячими пирогами,
оленей с большими рогами,
танцующих на припеке.
Мне мама достала в книжках
и вылепила на стуле,
такая жара в июле.
И вся я сегодня в белом,
такая же в точности мама,
с такой же в точности деткой,
к земле прижимаюсь телом.
Наш дом в предместье Парижа,
наш дом позапрошлого века,
где солнце застенчиво лижет
оконное белое веко,
где в доме тепло от прохлады
запуталось в маминых ветках,
в вареньях и шоколадах,
где сладко звучащее «детка»
разносится эхом по дому,
плетет кружева на тюлях.
Такая жара в июле.
***
Под нами скалистый обрыв.
Смотрю в эту реку.
И ветра сквозного порыв
В оконные рамы
Ворвется с разбегу.
И вздыбится парусом тюль.
И все лепестки на букетах.
Как трещина в мире,
Этот внезапный июль.
И каждый наш вздох
Как в песне его куплеты.
Дыши как в последний раз.
Давай допоем эту песню.
Не время еще умирать.
Но время быть вместе,
Просто быть вместе.
И эта река – наш предел.
И этот обрыв – наше счастье.
Я вижу твое лицо
В этой печальной воде.
Я вижу, как ты
Стал неотъемлемой частью.
***
Воздуха хочу, воздуха,
Над крышами твоих домов небо зарделось,
Разом всё выплеснуло, розовым,
А я взяла так тихонечко и оделась.
И пошла прочь, на набережные,
На здания средневековые пялится,
Вышивала тебе крестиком,
Пяльцами,
Пальцами,
Была такой приветливой,
Светленькой.
Набожной.
И пальто такое девичье,
И ботинки подстать юности.
Укрывает небо мне плечики,
А мне ведь даже некуда сунуться
В пять утра, рассветным кузнечиком
Скачу.
И ни кофе тебе, ни булочек,
Бирюзой небесной умытая,
Розовеющие щеки улочек
И окна стыдливо прикрытые.
И вся я в этом, в твоем чуть прохладном утреннем городе.
И с лодками в унисон у причала
Раскачиваюсь.
Не осталось ни любви, ни гордости в этом городе.
Ничегошеньки.
В нем даже меня не стало.
Спонсоры рубрики:
Алексей Жоголев
Олег Кравченко