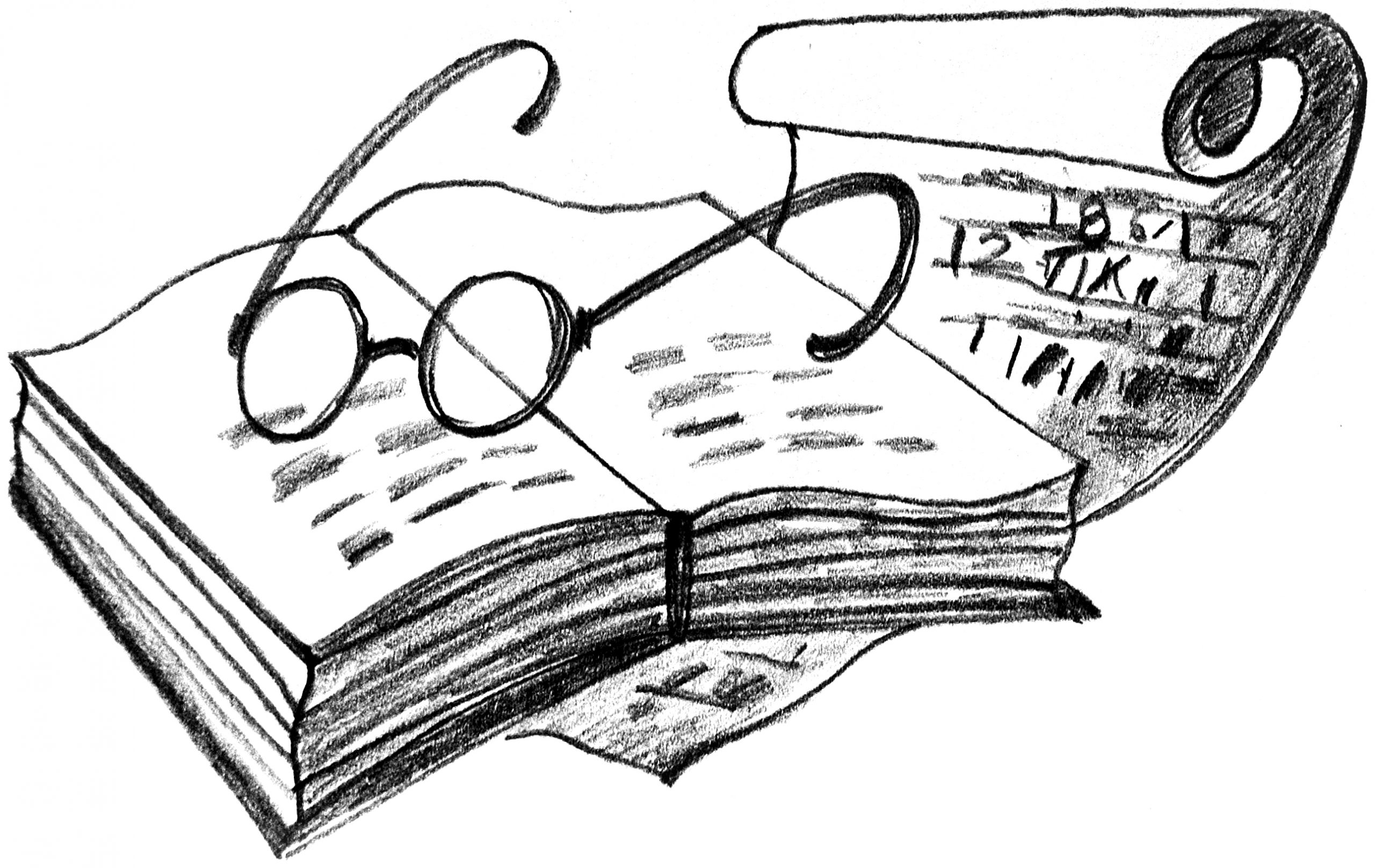Кривая вывезет…
Наиболее неприятное открытие последних десятилетий заключается в том, что постсоветский человек оказался еще хуже, чем советский, – эта мысль писателя Владимира Сорокина производит шокирующее впечатление, на которое, собственно, хлесткая сорокинская фраза и была рассчитана. Однако кроме эмоционального воздействия она подразумевает и серьезное продумывание, сопровождающееся рядом вполне очевидных вопросов.
Вопрос первый: что в данном случае означают оценки «хуже – лучше»? Где критерии того человеческого качества, о котором идет речь? Понятно, что взгляд писателя нацелен здесь не на статистические показатели, вроде уровня преступности, а на некую интегральную характеристику, учитывающую прежде всего моральные кондиции не столько отдельно взятого человека, сколько общества в целом.
При том, что значительная часть сорокинского творчества живописует советское общество через распад социальных связей и идиотизацию языка, надо полагать, что постсоветский социум ужаснул писателя тем, что уже и эти экстремальные художественные средства оказались непригодны для его изображения. Допустим, что интуиция не подвела большого художника, и примем оценку «хуже – лучше» как данность.
В таком случае возникают еще два вопроса: почему и как это произошло? Начнем с более важного вопроса – «почему?». С конца двадцатых годов в Советском Союзе была предпринята амбициозная попытка построения индустриального общества на основе (по существу) государственного капитализма. Рыночные отношения были устранены из этого экономического порядка в той степени, в которой представлялось возможным. В результате страна получила огромное количество разнообразного «железа» и некое подобие (фантом) индустриального общества, интегрированного не столько экономическими связями, сколько мощным идеологическим давлением и коллективным воспроизводством иллюзорной реальности «социализма».
Желающим почитать об этом больше могу рекомендовать замечательную книгу Евгения Добренко «Политэкономия соцреализма», не сказать, чтобы очень простую для чтения, но вполне заслуживающую и времени, и усилий читателя.
В целом то, что именуется на Западе «big society», «большим обществом», оказалось в Советском Союзе и недостроенным (фрагментированным), и крайне неустойчивым. Я не буду касаться здесь вопроса о принципиальной решаемости/нерешаемости задачи построения «большого» индустриального общества без рыночной экономики – в любом случае советский эксперимент в целом оказался неудачным, и с семидесятых годов, задолго до «перестройки», начался постепенный откат советского, а потом – и более быстрыми темпами российского, общества к более стабильному и традиционному доиндустриальному состоянию.
Первыми ласточками этого процесса стали и проза деревенщиков, и возрождение интереса к православию, и формирование националистических движений – как в России, так и в союзных республиках. Безусловно, насколько частичным был успех строительства «большого общества» в СССР, настолько же частичным оказался и возврат к традиционным формам культуры и социальной организации.
Результатом этих наложений и наслоений стало крайне противоречивое симбиотическое целое, жизнеспособность которого определялась в первую очередь наличием сильной внешней (государственной) пневматики. Сначала в роли такой «накачки» выступали идеи свободного рынка и демократизации, потом – патриотизма и цивилизационного противостояния Западу.
В связи с этим я считаю представления о социальной деградации российского общества по существу ошибочными. Суть произошедших с ним перемен гораздо точнее описывается таким простым примером: представьте, что у вас в морозилке холодильника хранится некий продукт, который вы решили разморозить. Потом вы по каким-то причинам передумали и загрузили его обратно в морозильный шкаф. Повысится от этих процедур качество продукта при том, что по сути своей он останется тем же, условно говоря, куриным филе? – Очевидно, нет: именно поэтому рассуждения на тему «лучше – хуже» имеют право на существование.
Большевистский эксперимент не пошел на пользу российскому населению; его идеологическое единство на уровне «большого общества» сегодня имеет явно остаточный характер и противоречит тому, что повседневная жизнь людей всё более ориентируется на традиционные доиндустриальные структуры и ценности. А вот встречающиеся иногда рассуждения о социальной деградации предполагают, что продукт из нашего примера с холодильником перестал быть годным к употреблению, что в данном случае далеко не очевидно и, более того, весьма сомнительно.
Второй из вопросов – как это произошло – подразумевает в первую очередь оценку роли государства в реализации тренда на «большой откат». Распространенное заблуждение здесь заключается в уверенности в способности политической власти планировать и направлять глубокие и длительные социальные процессы.
На самом деле любая власть в девяти случаях из десяти вынуждена за этими процессами следовать, лишь отчасти их корректируя, ускоряя либо замедляя. То, что российская государственная власть в целом понимает природу и направление идущих в обществе процессов, сомнений не вызывает.
Сомнения появляются тогда, когда мы начинаем рассматривать тактические приемы попыток их регулирования. Прежде всего ошибочным представляется быстрое возрождение госкапитализма как некоей «рамки», позволяющей удерживать минимальную степень единства «большого» постсоветского общества. Не говоря уже о том, что эффективность этой схватывающей рамки никак не подтверждается опытом 70–80-х годов прошлого века, нынешний госкапитализм имеет принципиально отличную от советского природу, поскольку паразитирует он на нефтегазовой трубе и к индустриальному (глубоко и широко интегрированному) обществу имеет отношение самое отдаленное.
Прямо говоря, нынешний госкапитализм как элемент социальной структуры является чистой фикцией и по большому счету – пятым колесом в телеге.
Вторым сомнительным тактическим приемом власти является идеологическая накачка населения консервативными и даже архаичными культурными ценностями. Рассуждая прямолинейно, можно подумать, что такая политика полностью соответствует тренду «большого отката», но при необходимости замещения слабеющих экономических связей идеологическими ее эффективность оказывается под большим вопросом. Длительное и сильное воздействие советской идеологии было в большой степени связано с ее новаторским характером и мессианской устремленностью в завтрашний день.
Общую степень целенаправленного воздействия власти на постсоветские социальные процессы большого масштаба я бы оценил, вопреки либеральным взглядам на этот предмет, как слабую и, к сожалению, недостаточную. При том, что и сам СССР был в определенном смысле фикцией, попытки воспроизводства этой фикции дают на выходе ту самую «кривую», которая чаще всего вывозит в России в самых неожиданных направлениях.