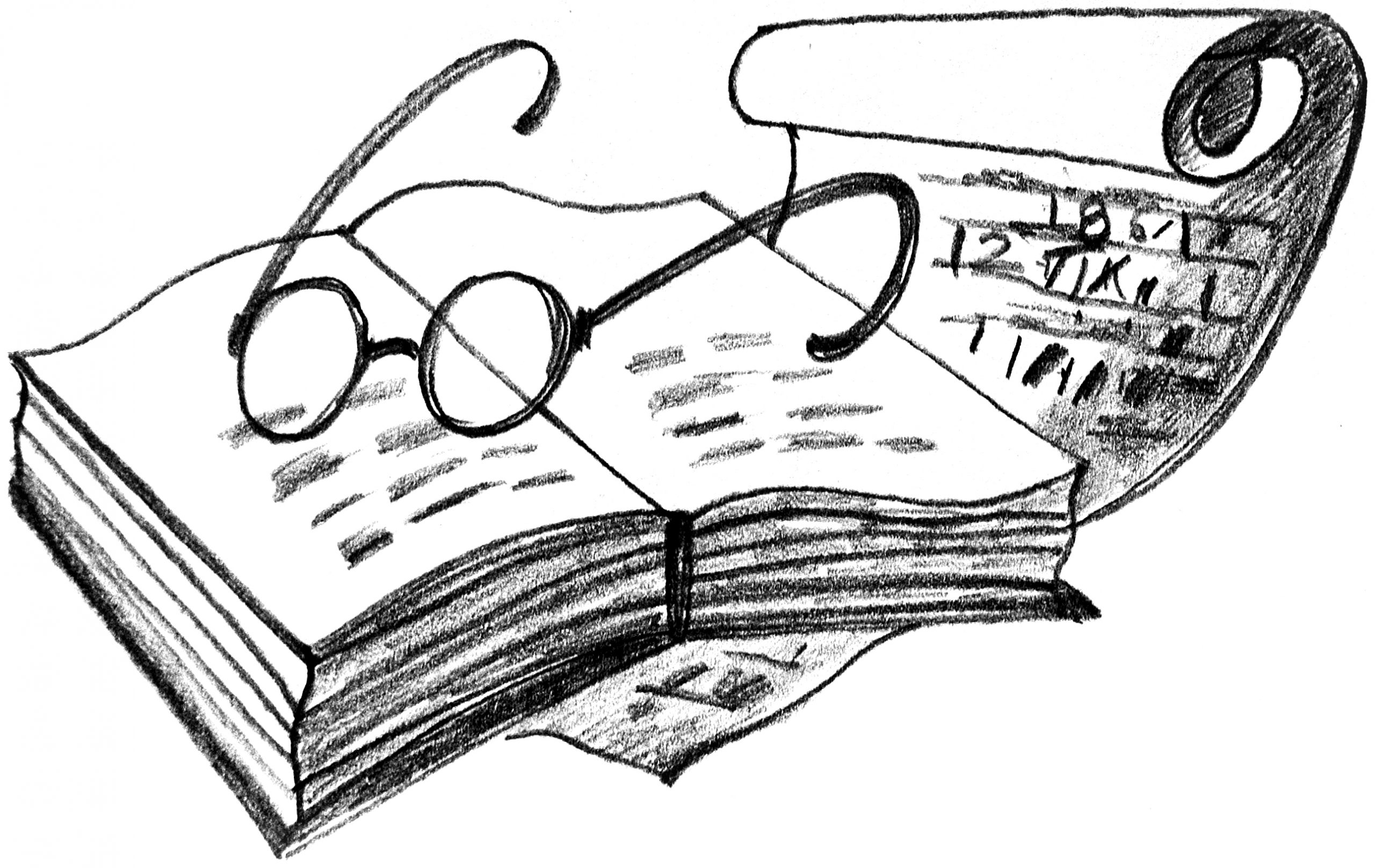Шиворот-навыворот
Прошедшее России было удивительно,
ее настоящее более чем великолепно,
что же касается до будущего, то оно выше всего,
что может нарисовать себе самое смелое воображение.
А.Х. Бенкендорф
Минувшее столетие российской истории слегка охладило пыл возможных последователей графа Бенкендорфа, и столь восторженные оценки прошлого, настоящего и будущего России сегодня вряд ли представляются уместными. Однако потребность в административных восторгах никуда не делась, и предметом их сегодня является по преимуществу сфера российской культуры. При этом справедливые высокие оценки национальной культурной традиции нередко дополняются утверждениями относительно культурного лидерства России в современном мире.
Попытки выстроить взаимосвязь между «удивительным прошлым» и якобы «великолепным настоящим» российской культуры заслуживают серьезного внимания, поскольку высокая оценка этого настоящего далеко не очевидна, а стремление подкрепить авторитет настоящего прошлым заставляет задуматься об актуальности национальной культурной традиции в современном мире.
Содержание и особенности современной российской культуры до сих пор во многом определяются наследием классической русской литературы девятнадцатого века. При этом существенно, что творчество Достоевского, Толстого и Чехова (этих троих – в первую очередь) значительно влияет и на современное восприятие отечественной культуры на Западе.
Можно сказать, что русская литературная классика произвела на свет наиболее конкурентоспособный в мировом измерении культурный продукт. Это нисколько не умаляет исторических заслуг отечественных музыкантов, художников и хореографов, но позволяет задаться вопросом о некоторых особенностях русской литературной классики, которые в определенном смысле представляют собой ее фирменный «лейбл», пользующийся спросом далеко за пределами России.
Начнем с того, что этот «лейбл» был создан примерно в середине позапрошлого столетия; его созданию предшествовало примерно полувековое старательное следование европейской литературной моде, родоначальником которого был Карамзин, а наиболее ярким представителем – Пушкин. Александр Сергеевич в письмах приятелям неоднократно и открытым текстом обозначал основные периоды своего творчества как подражательные: «это было написано, когда я подражал тому-то, а это – этому».
За свою короткую жизнь Пушкин перепробовал огромное количество стилей и жанров, свойственных европейской литературе, уделяя особое внимание, естественно, наиболее свежим и модным течениям. Несколько запоздавшим байронистом в этом ряду оказался Лермонтов; одновременно на литературной сцене появляется великолепный Гоголь, который был слишком самобытен для буквального следования европейским модам и, соответственно, малоинтересен для европейской публики. А вот дальше начинается самое интересное.
Во Франции во второй трети девятнадцатого века происходит резкий слом литературной традиции, и по сути дела рождается принципиально новая литература. В поэзии революционером был прежде всего Бодлер, а в прозе – великое трио Стендаля, Бальзака и Флобера. Новая проза создает жанр «большого психологического романа», который на долгое время (вплоть до Джойса) становится главным в мировой литературе.
На первый взгляд творчество Толстого, Достоевского и, в меньшей степени, Чехова (который, как известно, романов не писал) является продолжением и мощным развитием нового европейского жанра, но это только на первый взгляд. На самом деле ситуация с тогдашней новой русской прозой выглядит далеко не так однозначно и прямолинейно.
Здесь я сделаю небольшое отступление и расскажу одну историю, имеющую отношение к особенностям русской литературы и культуры в целом. Лет двадцать назад я работал в общем проекте с одним известным европейским историком, который однажды сказал мне: «Ты знаешь, меня постоянно удивляет в России степень открытости людей. У нас можно годами жить рядом с человеком и ничего о нем не знать. А здесь после пяти минут знакомства с простыми людьми тебе расскажут все – вплоть до того, как дочь живет с зятем». Это верное замечание, как мы сейчас увидим, имеет отношение не только к «простым людям», но и к великим русским писателям.
Зададимся для начала простым вопросом: являются ли романы Толстого и Достоевского «психологическими романами» в том смысле, в котором ими являются «Красное и черное» и «Мадам Бовари», при том что какие-то психологические характеристики персонажей и в «Анне Карениной» и в «Преступлении и наказании», несомненно, присутствуют? Я ответил бы здесь отрицательно, поскольку эти характеристики у русских писателей проявляются в поступках действующих лиц в гораздо большей степени, чем в их всматривании в себя.
Что, собственно, мы узнаем из «Идиота» о внутреннем мире Настасьи Филипповны? Практически ничего, зато мы узнаем о ее способности швырнуть пачку ассигнаций в печку. О богатом внутреннем мире Пьера Безухова мы узнаем из его обильных речей, которые, к стыду самого Пьера, никак не могут превратиться в соответствующие речам поступки; наконец поступки свершаются, и роман на этом заканчивается.
Родион Романович Раскольников стремится познакомить с особенностями своей тонкой психической организации немалое количество окружающих вплоть до пристава следственных дел, с каковой целью совершает большое количество диких и нелепых поступков.
Короче говоря, у Стендаля, Бальзака и Флобера психологический портрет героя создается прежде всего для читателя, а у Толстого и Достоевского этот портрет имеет «выворотную» природу, поскольку герой выворачивается наизнанку в первую очередь перед своими романными контрагентами и лишь благодаря этим разнообразным фейерверкам становится в какой-то степени (чаще всего небольшой) понятен и читателю как наблюдателю второго уровня, а скорее, даже третьего, поскольку наблюдателем второго уровня является сам автор романа.
Не желая утомлять читателя наукообразными терминами, я скажу простым языком, что в русском классическом романе психология персонажей изображается преимущественно в режиме показа, своего рода сценического представления, а в европейском – посредством заглядывания внутрь персонажа, интроспекции. О причинах этого различия можно говорить долго; при этом очевидно, что корнями они уходят в некоторые особенности русского национального характера, в равной мере свойственные как графу Толстому, так и простому крестьянину.
Собственно, «вывернутый наизнанку» тип психологического анализа и является той фирменной фишкой, благодаря которой русская классическая литература стала популярной на Западе и была включена в золотой культурный фонд человечества. Ее готовность рассказывать, условно говоря, про дочку с зятем первому встречному – индивидуальная особенность, которая до какой-то степени остается востребованной за пределами России по сей день. В связи с этим возникает ряд актуальных вопросов, которые следует сформулировать в конце статьи.
Первое. Сохраняется ли мировая традиция восприятия русской культуры под углом зрения «перформативной психологии»? Думаю, что да; этим объясняется повышенный интерес на Западе к тем российским произведениям, которые у нас неточно и неверно именуются «чернушными». На самом деле они не столько чернушные, сколько матричные – воспроизводящие определенный тип художественного произведения в режиме испорченной шарманки.
Второе. В состоянии ли современная российская культура полноценно удовлетворять спрос на произведения такого рода? Думаю, что здесь ответ скорее отрицательный. Дело в том, что лучшая часть послевоенной советской и российской литературы – от Солженицына до Сорокина – в значительной степени занимается критическим пересмотром классического наследия, причем критика эта принимает все более радикальные формы. В этих условиях «обслуживание лейбла» становится уделом авторов третьего ряда. По причине немалой «залитературенности» отечественного кинематографа то же соображение в равной мере относится и к кино.
Третье. С учетом двух изложенных выше обстоятельств есть ли шанс у российской культуры выйти из архаичной ниши условных «достоевщины» и «чеховщины» к новым горизонтам понимания мира и человека? Отрицательный ответ подразумевает закрепление ее провинциальной и, по существу, музейной природы, которая уже имеет место. Положительный ответ предполагает некоторые подвижки в содержании национального характера, которые выходят далеко за область художественного творчества. Хотя и художественное творчество может в меру сил этим подвижкам содействовать.
Условием такого содействия, как ни грустно об этом говорить, является достаточная степень дистанцированности художника от Настасьи Филипповны, Пьера, Родиона Романовича и иже с ними. Ну или, по крайней мере, готовность художника задуматься о том, почему стотысячная пачка ассигнаций в итоге неизменно оказывается в печке.
Спонсор рубрики Павел Парамонов