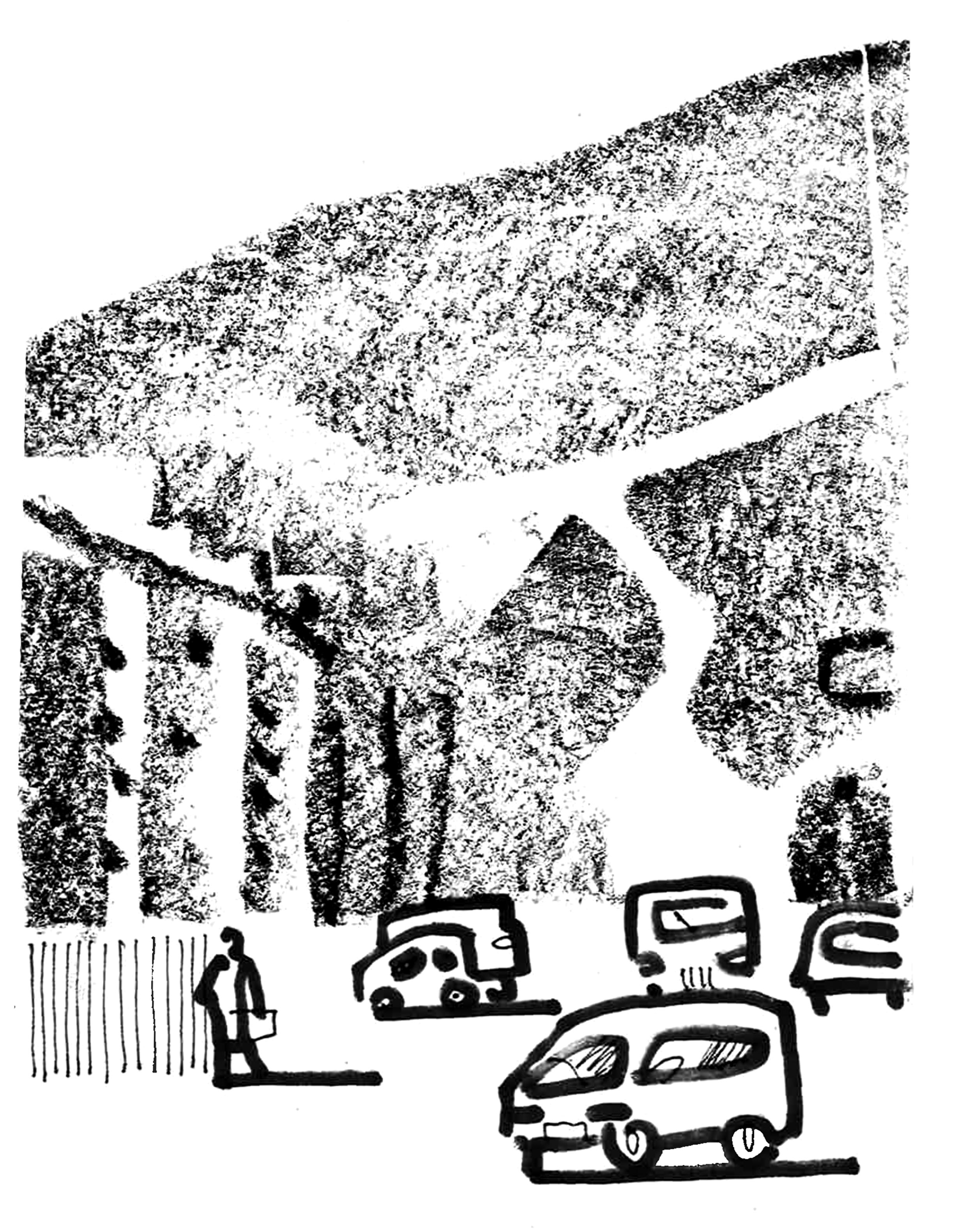Остров Сахалин, столбы на Реке и Колымская трасса
На Сахалине я был трижды. Даже из Якутска туда летал, с пересадкой во Владивостоке.
Каждый раз я сидел у окна и видел, как обрывается материк, под крылом близко, но медленно движутся корабли по глади Татарского пролива, оставляя длинные расходящиеся следы на воде, и набегают зеленые сопки острова, так и оставшегося для меня таинственным.
Общее место: советская власть испортила не только нравы, но кое-где и ландшафты. Последнее особо справедливо, если говорить, например, о Владивостоке, родившемся в одном из самых красивых мест на земле – на разновеликих сопках по берегам Амурского и Уссурийского заливов, а по центру еще и взрезанном Золотым Рогом. И когда с высоты смотровой площадки глядишь на это великолепие, обремененное унылыми панельными пятиэтажками, советскую власть и впрямь начинаешь любить еще меньше.
Южно-Сахалинска всё это коснулось не столь значительно. Не в том смысле, что здесь нет панельного уныния, а в том, что портить тут было особо и нечего. Город лежит в глубокой плоской котловине, окруженной не слишком грандиозными возвышенностями, играющими роль естественных преград для ветреных непогод. Селение Владимировка возникло тут ближе к концу XIX века как место для обустройства жизни ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев, ибо вольных людей никакими посулами тогда ни загнать, ни заманить не удавалось. Обычное такое русское селение образовалось, и с довольно крепкими хозяйствами, бревенчатыми торговыми лавками, почтой, школой и несколькими казенными домами.
Японцы, получившие южную часть Сахалина по грустным для нас итогам русско-японской войны и владевшие ею до 1945 года, переименовали территорию в губернаторство Карафуто, а Владимировку – в Тоёхару, назначенную столицей.
Столицу свою японцы разбили чуть в стороне от Владимировки, довольно скоро стершейся с лица земли, по американско-чикагской модели с долгими, под прямым углом пересекающимися улицами – такую же планировку отчасти сохранил и нынешний Южно-Сахалинск, что хорошо видно с горы Большевик, при японцах носившей имя Асахигаока, что значит «Холм восходящего солнца».
Улицы Тоёхары застроили легкими жилыми домиками, в каких могут жить только сами японцы: после сорок пятого всё это было быстро снесено как непригодное даже для советского человека. Заодно, отчасти в отместку, наверное, разрушили и все храмы, и даже большинство административных зданий. Кое-что всё же сохранилось, но изменившись почти до неузнаваемости, разве что мой любимый краеведческий музей никто не тронул. От синтоистских храмов остались лишь кое-где фундаменты на городских задворках да несколько ворот-торий, но и то не в самом городе.
Так что Южно-Сахалинск являет собой типично советский послевоенный город, возведенный практически на пустом, разве что распланированном месте, чем и интересен. И если в Москве, например, отвернувшись от Кремля и двигаясь по Якиманке, Ленинскому и дальше через короткий проспект 60-летия Октября по Профсоюзной, можно проследить архитектурные нюансы каждой последующей эпохи, то в столице Сахалина все архитектурные стили перемешаны, как в хорошем винегрете, хотя панельные пятиэтажки в центре, кажется, и преобладают, иногда спрятавшись по главным улицам за спинами новых бетонно-зеркальных строений. В хорошую погоду вокруг видны туманные вершины сопок, что не может не радовать. Да и до моря совсем недалеко, до Охотского, что всего лишь условность, ибо и Охотское море, и ближайший к городу залив Анива на самом деле есть уже Тихий океан, ну ладно, пусть – его окраины.
Когда давно и в первый раз я выбрался на океан, по пути видел домики, обитые рубероидом, по бедности уступающие самым неказистым сельским строениям отнюдь не богатой Центральной России, выброшенные на берег ржавеющие сейнеры, белокопытник вдоль дорог, похожий на лопухи, – в молодости съедобный в умелых руках, а в возрасте на влажно-солнечных склонах вырастающий до размеров хорошего мужского зонтика, под которым можно спрятаться аж вдвоем, медвежьи дудки высотой в три человеческих роста, холодные на вид океанские волны и низкое пасмурное над ними небо.
И ничего обманчивого в этом не было: всё честно, запущенно и волшебно, именно так – сразу, будто человек пришел сюда временно, ненадолго и не зная, что с доставшимся ему чудом делать. Пока его хватило только на то, чтобы брать-брать-брать и очень мало давать взамен.
Мы остановились и вышли из машины. Наш водитель достал огромный сачок, будто для ловли тропических бабочек. Поднялись по склону вдоль небольшой громкой речки и вскоре оказались возле круглого бочажка, возникшего перед бетонным кольцом, сужающим водный поток. Бочажок жил собственной бурно-серебристой жизнью, словно кипел изнутри. Опущенный в него сачок вернулся полным крупных рыбин, тут же вытряхнутых на берег. Их было штук семь, но мы взяли только три, остальных вернув речке, всё-таки они тут по делу: на нерест идут куда-то далеко и высоко по реке.
Позже, уже на привале, мы зашли в мелкое море с тем же сачком и провели им раз-другой по волнисто колышущейся под водой траве: каждый раз сачок приносил нам крупных креветок, по-местному чилимов, и крабов размером с пол-ладони. Мы их варили в котелке над огнем, а я даже рискнул одного чилима, макая в соевый соус, съесть сырым, и мне он понравился.
Гастрономические ноты – одни из главных в ощущении нового места, а уж если их невзначай, а то и нарочито соединить, вроде как совсем не звучащие вместе, то бывают вдруг странные, но уж точно неповторимые сближенья.
Мы долго ехали от Якутска, но оказалось, что проделали пока лишь треть пути. Дальше нас ждала Лена. На быстрых лодках до чаемых Ленских столбов оставалось еще часа два-три.
– Это как пойдет, – сказал мой капитан, натягивая глубже фуражку с якорем и выруливая на середину реки.
Столбы, впрочем, начались где-то через час-полтора, ибо тянутся, сурово и таинственно вздымаясь вдоль берега, на несколько десятков километров, но выйти на берег и взобраться к их вершинам без специальных навыков и снаряжения можно лишь в специально отведенном месте, куда мы и стремились в конце концов попасть.
Среди нас оказались завзятые рыбаки с заготовленными спиннингами. Мы остановились. А пока рыбаки со своих лодок промышляли нам на обед, я достал из рюкзака полголовки эдамского сыра, привезенного недавно из Амстердама и захваченного с собой в командировку, дабы не пропал, а порадовал кого-нибудь еще. Мы угостились настоящим голландским сыром посреди великой российской реки, и нам стало хорошо.
Вскоре с соседней лодки нам стали подавать знаки пристать к берегу. Все три наших катера причалили, рыбаки тоже причастились сыром, а сами похвастались своим вполне приличным уловом: была там даже зубастая щука, солидная, я раньше таких живьем не видел.
Капитан нашего катера, видно главный в команде судоводителей, достал специальную коптильную посудину, оказавшуюся бывшим баком для бензина, распиленным пополам, выложил дно его прибрежной осокой, устроил в нем поудобнее рыбины и посыпал всё солью и диким луком, собранным нами тут же вокруг, в радиусе двух-трех шагов от разведенного костра. Покормив сначала духов воды, мы и сами подкрепились свежезакопченной рыбой и, рассекая водную гладь под сытый гул моторов, двинулись дальше.
Через час вновь высадились на берег, обошли якутское капище и долго-долго забирались вверх по извилистой тропе-лестнице. Сердце иногда екало, но было ради чего.
Лена, шириной здесь километров в восемь, а то и десять, с песчаным продолговатым островом посередине, текла себе с юга на север – и в каждую сторону, хоть до истоков, хоть до Ледовитого океана, по человеческим меркам ощущалась бесконечной.
В город мы вернулись уже в темноте.
Якутск вроде как формально стоит на берегу Лены, но это в реальности не совсем так. На самом деле несколько в стороне, и никаких ленских набережных здесь нет. Центральная часть города, лежащая в долине Туймаада, отделена от реки пойменным Зеленым лугом, в половодье затопляемым, речной порт расположен на одном из протоков Лены, тоже на отшибе. Но воды всё равно много: по всему городу разбросано множество озер и стариц, частью облагороженных, частью запущенных.
И хотя я знал, что Якутск стоит на вечной мерзлоте, не сразу сообразил, почему тут всё так неудобно: чтобы элементарно войти в магазин или ресторан, надо преодолеть уйму ступенек. Всё, однако, просто – дома стоят на сваях, посему первые этажи и столь непривычно высоки.
А самые резкие контрасты тут на каждом шагу. С одной стороны, много новых пафосно-стеклянных зданий, построенных на алмазные и нефтяные деньги, с другой – полно бараков, деревянная обшивка которых местами посинела от старости, немало и панельных пятиэтажек, порой с уникальными «изысками» – особо предприимчивые жильцы индивидуально утепляют свои квартиры извне кто чем горазд: то сайдингом, то шлакоблоками, а то и вовсе замазывая межпанельные швы некой отвратительного цвета субстанцией. Но понять по-человечески их можно: зимой тут минус 50 градусов – обычное дело, доходит и до 60.
Я жил здесь летом, но и летом свои напасти. Во-первых, плюс 30 – здесь совсем не то, что в какой-нибудь Москве. Солнце такое открыто-жгучее, что уши начинает щипать как при крещенском морозе. А еще пыль, но не обычная, а, как мне объяснили знающие люди, дисперсная: летом вечная мерзлота на поверхности земли немного оттаивает, не глубже чем на метр, отчего сия невидимая и всепроникающая субстанция и образуется. Пыль покрывает лицо, губы, уши, от нее слезятся глаза и чешется в носу.
Да, еще про контрасты. Ежели свернуть с улицы в какой-нибудь обычный вроде бы двор, то там может оказаться сразу пара или тройка ювелирно-алмазных магазинов, а по центру двора тут же обнаружится самая настоящая, глубокая, прямо-таки гоголевская лужа.
Зато еда здесь есть как раз на мой любопытный вкус. Строганину или индигирку можно при желании и в Москве попробовать, хоть в той же «Экспедиции», но тут, на родине их, они как-то «слаще». Про строганину все знают, а вот индигирка – это нечто близкое, но иное. Делается она тоже из сырой свежемороженой рыбы вроде чира, нельмы или омуля, но чуть более замысловато. Главное, по-моему, чтоб рыба порезана была правильными аккуратными кубиками. Добавляется лук, всё посыпается большим количеством черного перца и солью, быстро перемешивается и тут же употребляется. Можно даже без водки – и так пробивает до испарины вдоль позвоночника и под лопатками, откуда крылья растут.
Если внимательно побродить по городским закоулкам, то кое-где еще можно встретить старые дома с резными наличниками и воротами, но если в центре они еще как-то дышат, то на окраинах, особенно там, где город враз обрывается перед бескрайностью Зеленого луга, доживают, похоже, последние дни. Новодельный же Старый город рядом с Преображенским собором – плохая замена овсу.
Про дисперсную пыль я уже говорил, но она напрочь въедается даже в память и невидимой взвесью отравляет воздух и, наверное, легкие. И вроде привыкнуть к ней невозможно, однако привыкаешь. Но насколько всерьез мой бедный организм от нее устал, я ощутил, лишь прилетев из Якутска во Владивосток. Я вышел из аэропорта ранним сумрачным утром и с изумлением начал дышать сначала часто, потом редко и всё глубже – вкус океанского воздуха был ласков и свеж, как холодное молоко с похмелья.
Кстати, вернувшись после Владивостока, Сахалина и снова Владивостока в Якутск, я почувствовал, что мой организм вполне перезарядился и готов к любым новым испытаниям. И продолжил странное для якутян освоение города: тут все обычно передвигаются на леворульных джипах или в крайнем случае пользуются общественным транспортом, я же предпочитал гулять пешком и обошел уже весь город, став отчасти локальной достопримечательностью для местных коллег – по утрам в офисе, где мы работали, они делились со мной и между собой, кто и в каком конце города меня вчера видел.
Решил я наконец дойти и до речного порта, куда до меня никто в здравом уме из центра города пешком явно не добирался.
И да, там стоял кораблик, как раз вскоре собиравшийся отбыть на ту сторону Лены.
Маленькая справка: моста через Лену в Якутске нет, как нет тут и железной дороги, даже до левого берега, не говоря уж про правый, откуда начинается Колымская трасса. То есть формально она начинается в Якутске у главпочтамта, но это скорее фигура речи: зимой по замерзшей реке налажена ледовая дорога, летом автомобили пересекают Лену на пароме. Для пеших же, вроде меня, и ходят по редкому расписанию кораблики типа московских прогулочных.
Путь оказался неблизким, потому как сначала долго, пыхтя, выруливали из затона, потом наискосок пересекали Лену, а она тут шириной в несколько километров.
Никаких причалов не наблюдалось, так что наше вполне толковое плавательное средство носом почти ткнулось в песчаный берег, и пассажиров выпустили по сброшенному трапу. Кого-то ждали на машинах, остальных, как и меня, забрал рейсовый «пазик». Через несколько километров в горку мы выехали к поселку Нижний Бестях, на настоящую трассу – ту самую, Колымскую. Тут я вышел.
Из достопримечательностей обнаружились школа, сквер с детской площадкой, много-много строительных магазинов и столовка для дальнобойщиков. Пройдя поселок взад-вперед, у столовой я и остановился.
Еда оказалась обычной, люди тоже. Определить на взгляд, кто из них сейчас, плотно перекусив, отправится в путь до самого Магадана, я не смог, а лезть с разговорами ни к кому не хотелось.
Выйдя из столовой, я долго смотрел вдоль трассы в сторону Колымы.
До Магадана оставалось чуть больше двух тысяч километров.
Примерно как от Москвы до Амстердама.