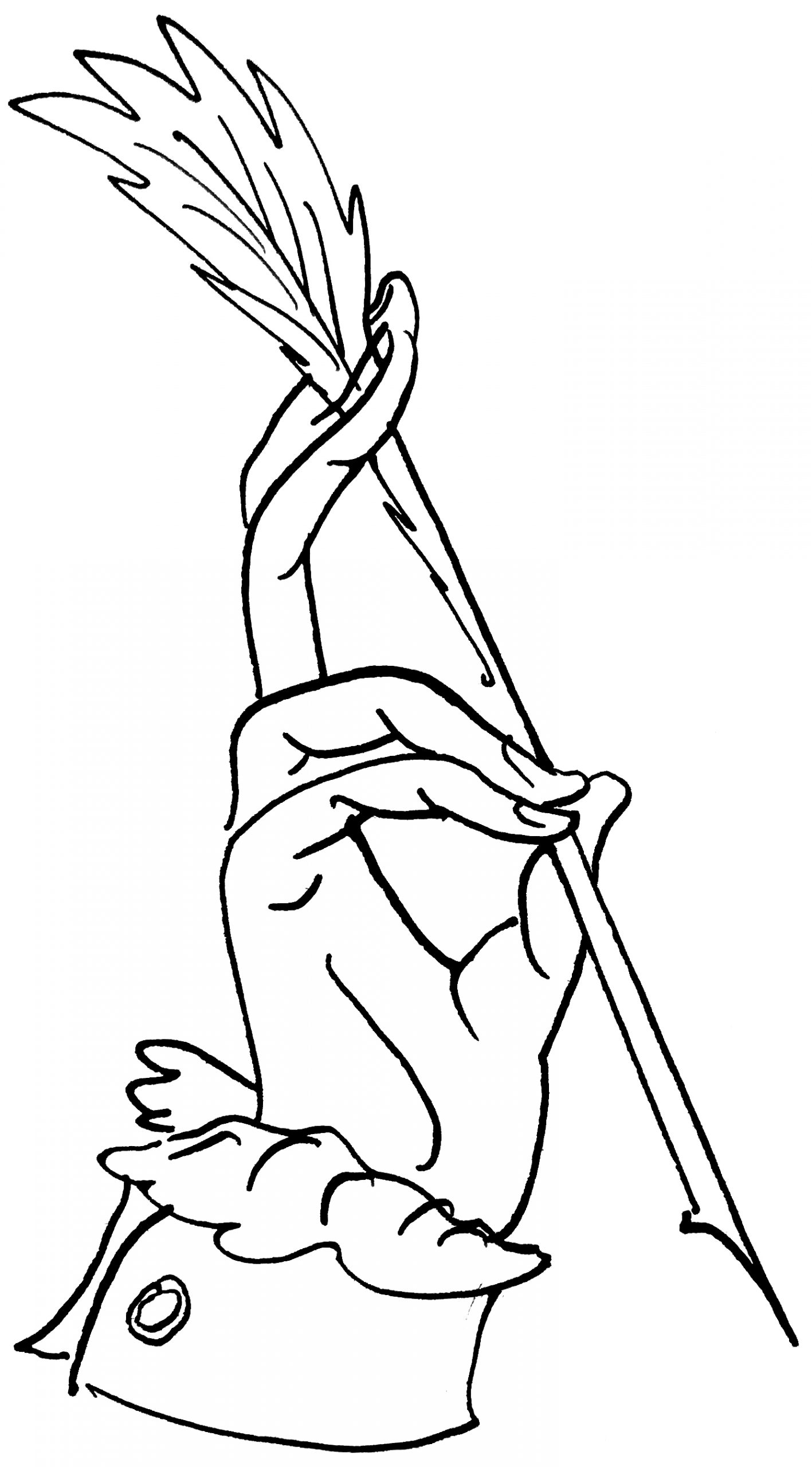На расстоянии руки, протянутой ко мне…
Феликс Чечик – поэт, который родился в Белоруссии, учился в Москве, живет в Израиле и пишет на русском языке. Его стихи почти всегда кратки, но в эти восемь строк легко умещается чувство любви – то главное, что он транслирует миру.
Любовь к каждой божьей твари, к осеннему лесу, к желтой дольке луны, к повседневному пространству, к местам, оставшимся в детстве, к языку, на котором писал Ходасевич… При всей легкости и незатейливости сюжета в тексте могут уживаться вместе библейские и советские реалии, мысли о вечном, интерес к взлетающему жуку…
Здесь воспоминания живут в настоящем времени, здесь жизнь многослойна, здесь существует боль, но нет отчаяния, а мир – прекрасный, хрупкий мир – нежится под любящим взглядом автора.
Марина Батасова
Поэт
* * *
Ни отклика, ни эха –
лишь тишина в ответ;
наотмашь человека
дневной ударил свет.
И упиваясь болью,
уже который век,
глядит во мрак с любовью
ослепший человек.
* * *
Когда сомневался Мефодий
и не сомневался Кирилл,
язык, растворенный в природе,
на птичьем со мной говорил.
О чем-то пиликал кузнечик
на тоненькой скрипке своей,
и молча, в преддверии речи,
былинку тащил муравей.
***
Отныне и навеки,
сейчас и навсегда
перевернулись реки
и вытекла вода.
Мы удивились чуду,
но, сидя на мели,
порожнюю посуду
в приемный пункт снесли.
Купили ящик пива,
а к пиву два леща,
и зажили счастливо,
над бездной трепеща.
***
«На даче созрела клубника
и брачный период у пчел» –
не самая худшая книга
из тех, что когда-то прочел.
«И звон комариный, и мята,
и рябь, и слюда на пруду» –
из тех, что прочел я когда-то
и мокнуть оставил в саду.
Лежит, позабытая всеми,
над нею кружит воронье,
да изредка ветер осенний
листает страницы ее.
* * *
где легкость старика
и тишина старухи
да там же где река
с деревьями в разлуке
ей надоело течь
стволы не отражая
тяжелая как речь
и рана ножевая
* * *
1.
Плавниковых крыльев шелест,
на мгновенье задержись.
Это осень. Это нерест.
Это смерть и это жизнь.
И обратно, как под током,
плавниками шелестя,
возвращение к истокам –
поколение спустя.
2.
переступая через
и наступая на
лосось идет на нерест
пока стоит луна
пока мелькают лица
столетьям не в пример
где память нерестится
и плачет браконьер
Нищий
На расстоянии руки,
протянутой ко мне,
я вижу лес и дно реки,
и женщину в окне.
Но, как ни странно, три в одном
не отменяют тьму,
когда я думаю о нем
и подаю ему.
* * *
За язык не тянули, я сам
никого не виню,
проболтался осенним лесам
и ночному огню,
что устал, и уже навсегда,
и уже до конца.
И бежит дождевая вода
по оврагам лица.
Королев
Лети! Мой палец Байконур.
Минутная готовность. Скоро
объявят небу перекур
и брызнут слезы у дублера.
Пусть ты обыкновенный жук,
каких полным-полно в природе.
Мотора пламенного звук
на рык звериный переходит.
«Поехали!» Потом твою
растиражируют улыбку.
А я у бездны на краю
стою без права на ошибку.
* * *
Мимо Ваганьково на 23-м
желтом трамвае в Израиль уедем.
И краснопресненские тополя
обетованная сменит земля.
А на подошвах другая, конечно,
сколько ни чисть – остается навечно,
сколько ни мой – остается навек
грязно-соленый кладбищенский снег.
Юрий Давыдович, лет через восемь
с сыном приедем, прощенье попросим,
сами не зная, за что и зачем,
чтобы уехать уже насовсем.
***
быть может к сорока
а может быть и позже
напишется строка
совсем без слов и кожи
потом за пятьдесят
напишется вторая
обетованный ад
для изгнанных из рая
***
я не был никогда
поэтом молодым
бурлящим как вода
и легким словно дым
я сразу в старики
попал как в переплет
сижу возле реки
и превращаюсь в лед
***
Ничего не вижу из-за тумана.
Подойду поближе – папа и мама.
Как на старом фото стоят в обнимку,
но не я, а кто-то глядит сквозь дымку.
На отца здорового и молодого,
не мигая, снова глядит и снова.
И на мать – красивую, в новом платье…
Но туман, не синий, укрыл объятье.
Навсегда исчезли под пеленою.
И разверзлась бездна и стала мною.
* * *
Безгрешен, говоришь. Быть может.
Но только вряд ли. Так и знай.
Почти что год на свете прожит.
Не гложет совесть? Ай-я-яй!
Покушай, детка, манной кашки.
Купайся в неге и любви.
А убиенные букашки?
А плачущие муравьи?
* * *
В темноте… В тишине… Посреди
ночи вдруг – пожалейте калеку –
полумертвое сердце в груди
заскулит, заскребется о клетку.
Ты проснешься от ужаса, свет
включишь в комнате. Ноет ключица.
Из соседнего дома в ответ
молодая завыла волчица.
* * *
Что касается грешного
моего языка –
вырву с корнем, сердешного,
и не дрогнет рука.
Чтобы больше не связывал –
(нету связи прочней)
с пожелтевшими вязами
по-над речкой моей.
***
И водорослей подо льдом
с ума сводящий гул
я слышал, лед бодая лбом,
пока не утонул.
Речными рыбами отпет,
лежу во мраке дня;
и в мире человека нет
счастливее меня.
Цикл «Из жизни насекомых»
3.
В лесу, в пустыне и в степи,
придя издалека,
на муравья не наступи
и не убей жука.
И не пугай, и не лови,
как энтомолог-псих:
по локоть в собственной крови
и по колено – в их.
6.
по старинке как на скрипке
не настроенной еще
заиграл с утра кузнечик
оттопырено плечо
молча слушали часами
этой фальши торжество
рыжий кот и феликс чечик
и любимая его
три в одном на целом свете
по велению смычка
вот и все стихотворенье
тчк
* * *
еще не возникли
возникнут вот-вот
кошмары и страхи
не видно конца
черны от черники
и руки и рот
и в белой рубахе
хоронят отца
* * *
Такое случается только
под новый немыслимый год,
когда ярко-желтая долька
луны над землею взойдет.
Когда в мандариновой роще,
как будто в сосновом бору,
простая – куда уже проще –
колибри поет на ветру:
какие-то нежные вещи,
какие-то звонкие «ля»,
и в небе – синицы похлеще! –
выписывает вензеля.
Такое случается снова
и снова, покуда горим.
И вечное пахнет елово
и празднично, как мандарин.
* * *
последняя нитка
промокла насквозь
не ливень а пытка
как тысяча ос
безумие сея
отправился в путь
меня и тесея
жалея чуть-чуть
* * *
Когда мы вернемся однажды с тобой
домой, но уже не врагами,
и станем слетевшей с деревьев листвой
под собственными ногами,
и будем, пока не придут холода
и снегом не станем от жажды,
неслышно шуршать над землею, когда
мы не возвратимся однажды.