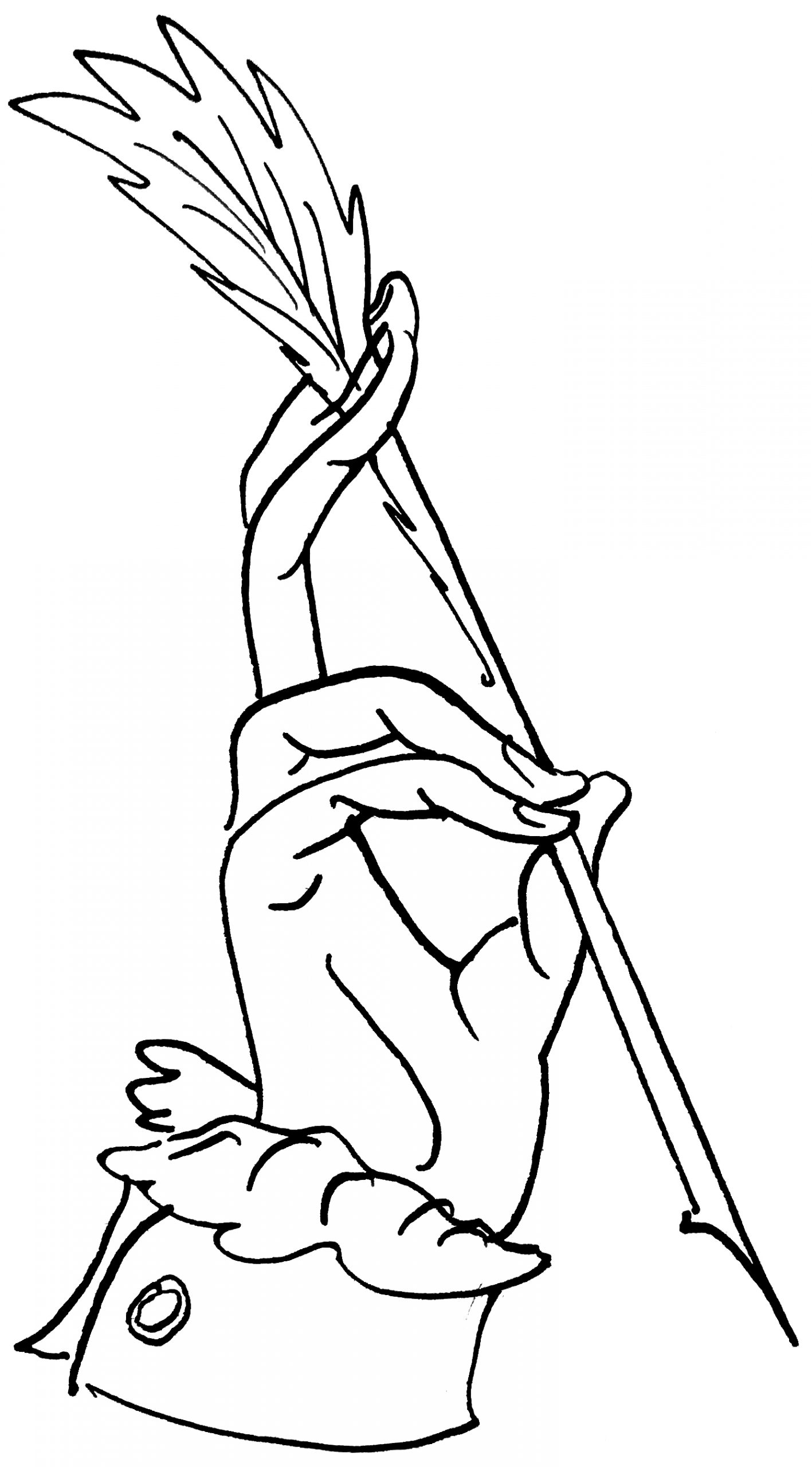Выпьем по первой и снова нальем
***
Здесь – понятно. А там
неужели покой?
Неужели «Агдам»
с «Жигулевским» рекой?
Неужели любовь,
неужели зима,
не сводящие вновь
человека с ума?
Неужели отец
в сигаретном дыму,
и еще не конец,
а начало всему?
Неужели опять,
бесконечно любя,
гладит юная мать
по головке тебя?
Здесь – понятно. А вдруг
если там пустота
и безумие вьюг
белизною листа?
Если там – ничего,
если там – никого,
лишь печали Его
и молчанье Его?
* * *
Пролетающий клин аистиный –
пуповину, как ножиком, вжик!
Мы чужие в своих палестинах
и свои в палестинах чужих.
Мы в пролете с тобой? Нет, в полете!
Мы, обнявшись, летим над страной,
как жена, растворенная в Лоте,
забывая про столп соляной.
Мы летим на все стороны света:
Третий храм – навсегда Третий Рим.
И любовь, и разлуку за это
ненавидим и благодарим.
* * *
Видишь: приходят составы с углем,
синее небо над родиной хмурой.
Выпьем по первой и снова нальем,
третью занюхаем мануфактурой.
Слышишь: февральские птицы поют.
Помнишь, как птицы весенние пели?
Снова сменив коммунальный уют,
во поле разбушевались метели.
И намело, намело, намело.
И замело и столицы, и веси.
И окончательно стало бело.
И не дождаться весенних известий.
Мы на морозном балконе куря,
тары ведем, растабары лелеем.
И понимаем, что прожили зря,
бунинским уподобляясь аллеям.
Позарастали, как стежки, быльем.
Быть перестали Гагариным Юрой.
Видишь: приходят составы с углем,
черное небо над родиной хмурой.
И, возвратившись с балкона в тепло
и наливая остатки в граненый,
двадцать проклятое слышим число,
будто бы марш похоронный.
* * *
След от чашки чая на столе
не успеет испариться: тихо
и безлюдно станет на земле,
и не возвратится Эвридика.
А Господь, конечно, ни при чем!
Всех любя – травинку и букашку,
вымоет, склонившись над ручьем,
вдребезги разбившуюся чашку.
* * *
Покойник, подросток, младенец,
зачатие – плод и вода.
Я выходец и возвращенец
из будущего в никуда.
И это единственный выход,
и это единственный вход,
не знающий горя и выгод,
а знающий лишь небосвод.
За ним – никого, наконец-то
за ним – тишина и покой,
он передвижения средство,
которое вечно: «на кой?»
Опала прибрежная липа,
опали и тополь, и вяз.
Я в прошлой – без крика и всхлипа –
любви наконец-то увяз.
Ты скажешь: «Такая эпоха!»
Живу и не бедствую я,
как тысячелетняя кроха
в прозрачной тиши янтаря.
* * *
Знают кошки, знают дети,
знает желтый дом:
кто игрец на этом свете –
тот жилец на том.
Ходят-бродят по дорожке,
песенки пея:
то ли дети, то ли кошки,
то ли ты да я.
* * *
Жена не съест и Бог не сдаст!
В сиреневом дыму
Поль Мориа тире Джеймс Ласт
аранжируют тьму.
Покамест птицы спят, пока
всё замерло окрест,
доносится издалека
нечаянный оркестр.
Я сплю и слушаю его
и просыпаюсь под
негаданное волшебство
полузабытых нот.
Вокруг пустыни и моря.
На бездну опершись,
Джеймс Ласт тире Поль Мориа
аранжируют жизнь.
Как одиночества пастух,
как в мае соловьи,
поет, не умолкая, дух
историю любви.
* * *
Умереть под колесами «скорой»,
неотложное время любя,
уподобившись жизни, в которой
места нет для меня и тебя.
Извини, что мы вышли из дома
непонятно, зачем и куда.
Тишины бесконечная кома,
неизвестность и боли страда.
На просторах вселенных и улиц
виноваты мы только лишь в том,
что однажды мы утром проснулись,
на мгновенье покинули дом.
Виноваты и сердце, и ноги,
птичий гомон и шар голубой.
С той поры мы с тобой одиноки,
с той поры неразлучны с тобой.
И пока не закончилась фора
высшей мерой – лишением прав –
разыщу горемыку шофера,
не простив, но как сына обняв.
* * *
Неизбежно кораблекрушенье:
царство тьмы и безвременье дна.
Только музыка нам в утешенье
как последняя милость дана.
Бах и Гендель – ни страха, ни горя.
Рифмой вечности – Гендель и Бах.
И уже ничего, кроме моря,
как соленая кровь на губах.
* * *
Завидую тому, кто выпил
и, погрузившись в дивный сон,
опять у магазина «Вымпел»
с друзьями повстречался он.
Слегка у «Вымпела» кирнули,
у «Полымя» поддали вновь.
И тише и быстрее пули
сердца наполнила любовь.
На Ленина еще по пиву,
а в «Поплавке» еще по сто.
Ах, не до жиру – быть бы живу!
И будут живы, как никто!
На то есть веская причина –
покойники среди живых.
Но это их не огорчило,
скорей порадовало их.
И, глядя в тишине на Пину,
по новой пили не спеша.
И, отрезая пуповину,
летела в прошлое душа.
А я живу и в ус не дую,
смотрю зимой на стрекозу.
И вновь над вымыслом колдую,
роняя светлую слезу.
* * *
Я на седьмом десятке
играю с миром в прятки.
Попробуй-ка, слови-ка,
напяль свои очки,
где небо – ежевика,
а звезды – светлячки.
Попробуй-ка, поймай-ка,
ищи меня свищи,
я ржавый, словно гайка,
и пущен из пращи.
Печалью утоленной
я всюду и нигде:
на вечно раскаленной
любви сковороде.
Лечу на все четыре,
не думая о мире,
а он при свете дня
взял и словил меня.
* * *
Обезвожены реки,
и безмолвны стихи.
Это вам за огрехи.
Это нам за грехи.
И над нами и вами –
ровно четверть часа:
полноводны словами
поутру небеса.
* * *
На ту же лавочку присяду,
на то же небо погляжу,
кивнув возлюбленному аду
и непонятному ежу.
Всё так, как было до отъезда:
на небе звезды, в травах еж
и очарованная бездна,
которую как водку пьешь.
Памяти Донны
Я полюбил во мраке,
как пустоту Айги,
невидимой собаки
неслышные шаги.
Мы с ней – две половинки
большого ни о чем,
гуляя по тропинке,
склонились над ручьем.
Куда она, туда же
и я на пару с ней.
И лес – чернее сажи –
становится ясней.
Мы с ней друзья навеки,
мы с ней навек враги…
А на сосновой ветке
чирикает Айги.
Мы счастливы, как дети,
в преддверии зимы.
А, может быть, на свете
не существует мы?
* * *
Милый Вольфи в парике-барашке,
выпей кофе из любимой чашки,
ждет – под завыванье декабря –
не дождется «Реквием» тебя.
За окном – метельно и морозно.
Крест нательный. Звуки «Lacrimosa».
И Констанция, и дети спят.
Может статься, это только спад?
Это не конец – бывало хуже.
Да, отец? И не такие стужи
музыке подвластны, лишь она
в день ненастный светит, как луна.
Вот перо, чернила и бумага,
зло, добро, отчаянье, отвага…
Ничего у бога не проси!
Жизнь – дорога. Счастье – нота «си».
Смерти нет, конечно, милый Вольфи.
Двести тридцать лет не стынет кофе.
Не смолкая, утешает мир
певчих стая – млечный твой клавир.
* * *
Безмолвны эти. Вышли те
и не вернулись.
Аукаемся в темноте
осенних улиц.
И, тиражируя свои
печали-тоски,
мы умираем от любви,
как в соснах доски.
* * *
Воробьи и трясогузки
пели песни не по-русски
бездны мрачной на краю –
в мандариновом раю.
У покойницы старухи
на груди лежали руки,
выражение лица:
в песню вслушивается.
* * *
Младенец не держит еще, а старуха уже,
болтаются головы – видишь? – то вправо, то влево.
И оба они улыбаются на вираже,
и оба они замирают от Божьего гнева.
Не гневайся, Боже, они ни при чем – привсегда:
один лишь пришел, а другая уходит навеки.
Течет зазеркально и не вытекает вода,
и в ней отражаются ангелы, сидя на ветке.
* * *
Сорвав природный голос, как чеку,
ты представлял для общества угрозу,
привив-таки к советскому дичку
любви позднеклассическую розу.
Ты цвел и пах, как первая любовь,
ты пах и цвел, пока не надоело
плодоносить, отказываясь вновь,
как страхом, обескровленное тело.
И ты увял и умер на корню
морозным декабрем в начале мая:
колхозник, пролетарий, парвеню,
парфюмом дорогим благоухая.
* * *
За щекой барбариска,
тай, как жизнь – поскорей.
Или я не из Пинска?
Или я не еврей?
И осеннюю стаю
провожая рукой,
барбариской растаю
у Него за щекой.
* * *
Означает ли это,
что уже до конца
наша песенка спета
и умолкли сердца?
Означает, конечно.
И с небесного дна
ровно в полночь утешно
раздается она.
* * *
Крохотная толика –
вечности толика,
как у алкоголика
беспросветность лика.
Светится, как водится,
горестно-иссиня.
Время. Богородица.
И мгновенье сына.
* * *
Тютчев утренних рос,
звезд мерцающих Фет,
как закрытый вопрос
на открытый ответ.
И за четверть часа
(дальний круг – ближний ost)
испарилась роса
и мерцание звезд.
А в бездонной душе,
словно в небе, парил
не архангел уже,
но еще Гавриил.
* * *
Февральских бабочек полет
лимонно-бел.
И тает, тает, тает лед
полночных тел.
Покуда спит вишневый сад
и видит сны –
они летят, летят, летят
на свет луны.
Из безысходности побег –
и до конца.
И, словно предрассветный снег,
с небес пыльца.
Спонсоры рубрики:
Алексей Жоголев
Андрей Клочков