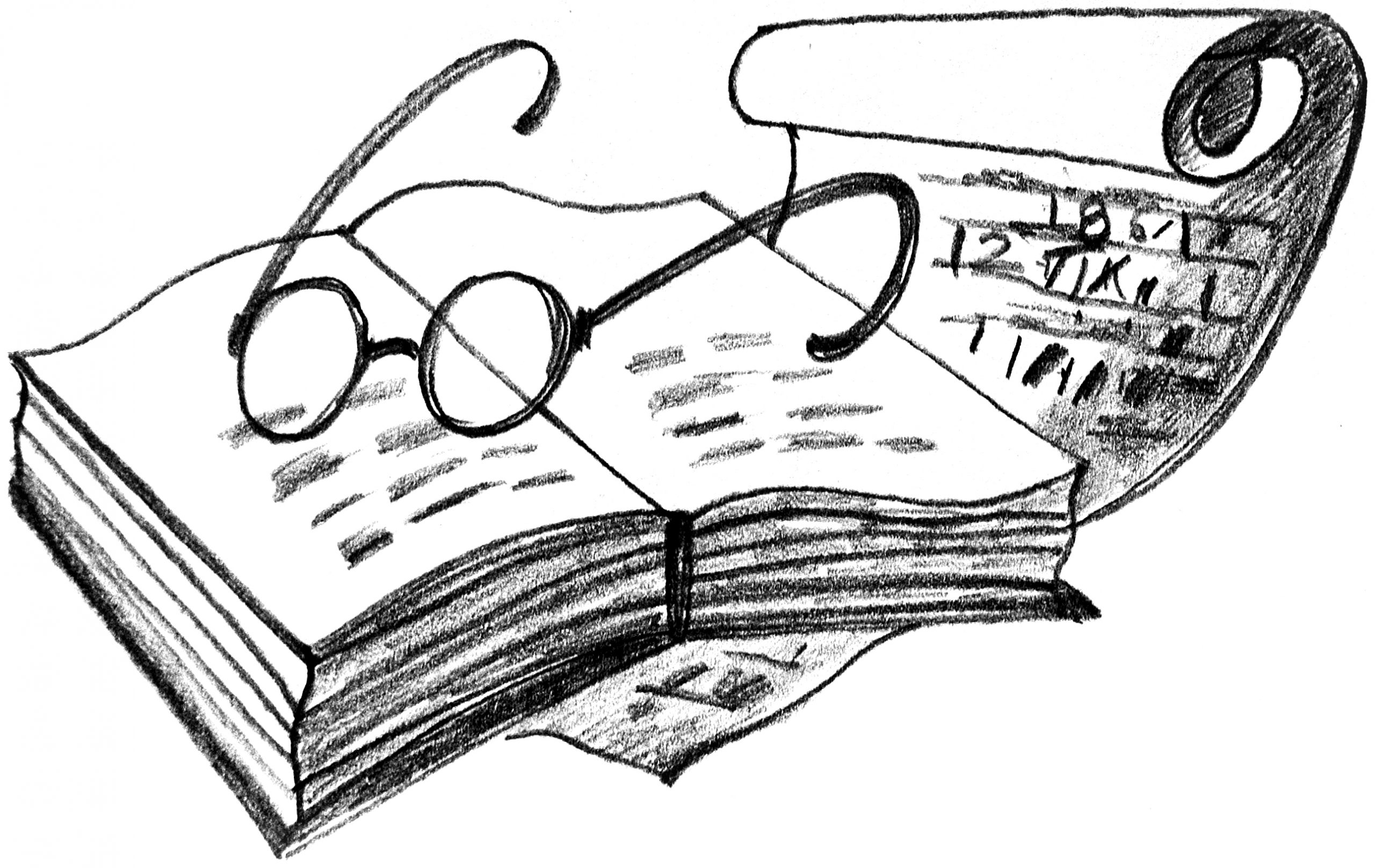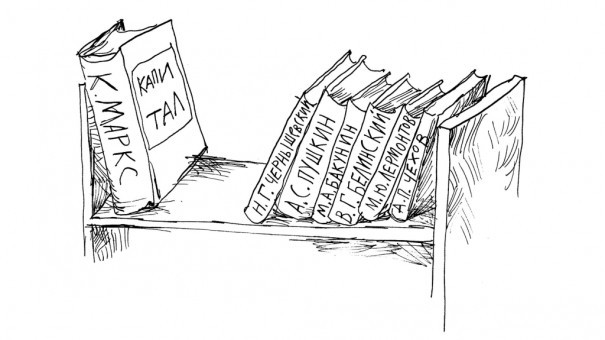На алтаре Отечества
История России на протяжении последнего столетия проделала столько неожиданных и странных поворотов, что понимание ее внутренней логики представляет собой серьезную проблему. В этой статье я хочу предложить читателю посмотреть на новую российскую историю, начиная с крестьянской реформы 1861 года и выбрав в качестве основного угла зрения проблему становления гражданской нации в России. Несомненным плюсом такого подхода является очевидная связь между конкретным событием (освобождением крестьян) и возможностью, возникшей в результате этого события.
Для начала имеет смысл сформулировать цепочку простых вопросов, которые помогут нам уточнить суть затруднений, возникших в российской истории на протяжении последних полутора веков. Вопрос первый: было ли теоретически возможно формирование гражданской нации в России после реформы 1861 года? Ответ: несомненно, да; более того, опять же в режиме чистого умозрения этот вариант развития событий представляется сейчас и представлялся тогда достаточно вероятным. Вопрос второй: имел ли место на практике процесс гражданской консолидации в пореформенное время? Здесь мнения историков и социологов расходятся, и существует несколько основных вариантов ответа. Оптимистический (например, Орландо Файджес) – «да» с некоторыми оговорками относительно форм и темпов процесса. Второй ответ – «да, но» дает социолог Теда Скочпол, указывая на эффективное подавление этого процесса опережающим развитием государственного аппарата. Третий, пессимистический, ответ принадлежит историку Михаилу Гефтеру: по его мнению, в России формируется не гражданская нация, а своеобразный «социум власти», блокирующий процессы как национального, так и государственного развития. Думаю, для нас вполне достаточно того, что в целом немалая часть историков отвечает на интересующий нас вопрос утвердительно. Вопрос третий: имеет ли процесс формирования гражданской нации ощутимые результаты в наше время, то есть спустя почти сто шестьдесят лет после крестьянской реформы? Ответ скорее отрицательный.
Простая логика заставляет нас предположить, что в российской истории имели место какие-то мощные процессы, противодействовавшие процессу гражданской консолидации; при этом они могли иметь различную природу: либо действующую вопреки основной тенденции в конкурентном режиме (1861–1917 гг.), либо прямо блокирующую (после 1917 года). Именно о первом, более раннем периоде имеет смысл поразмышлять.
Право говорить и действовать от имени (несуществующей) гражданской нации в пореформенный период присвоила себе русская интеллигенция. Собственно, именно этим правом она и обосновывала свой исключительный социальный и культурный статус. Сделать это было тем проще, что государство полностью отказалось играть на этом поле, опасаясь дополнительной дестабилизации и без того непростой социально-политической обстановки. Обозначение интеллигенции в качестве «современного жречества» сегодня достаточно популярно; важно понимать истоки этих жреческих настроений. Жрецы в древности говорили «с» богами и «от имени» богов; именно здесь усматриваются корни обожения русского народа в культуре пореформенной интеллигенции и ее претензии на исключительный статус посредника в отношениях с народом. Весьма показательно выглядят в связи с этим обильные высказывания интеллигентов (как до-, так и послереволюционных) на тему готовности положить все «на алтарь Отечества» с прямой отсылкой к жреческим практикам.
В результате проект гражданской нации стал соотноситься в России не столько с основной массой населения, сколько с активными спикерами проекта. Возникла крайне двусмысленная ситуация, при которой гражданская нация существовала в виде весьма развитых речевых практик, монополизированных сравнительно малой группой населения, но отсутствовала де факто как субъект и объект политического и административного действия. Вне всякого сомнения, эта патологическая раздвоенность чрезвычайно затрудняла любые действия правительства; столь же очевидно, что она способствовала быстрому росту безответственных настроений, в частности радикализма, в интеллигентской среде. Монополия на говорение от лица фантомной общности в сочетании с отсутствием политической субъектности породила на свет дичайшее социальное прожектерство; распространение в России марксизма по существу только усугубило эту дикость.
Именно поэтому русская интеллигенция достаточно быстро перешла от интегрирующих стратегий создания гражданской нации, ориентированных в основном на крестьянство (народничество в его мирном изводе), к стратегиям, которые можно назвать «отсекающими», то есть отделяющими «чистых» от «нечистых», достойных войти в состав гражданской нации от недостойных. «Лучше меньше, да лучше» – этот ленинский тезис прекрасно иллюстрирует идею преимущества сильной сцепки малого по отношению к рыхлости и ненадежности большого. Логическим итогом такой стратегии стало финальное отсечение от проекта гражданской нации российского крестьянства, составлявшего, напомню, накануне революции 1917 года около четырех пятых населения страны. Вполне понятными становятся и грубые выпады Ленина против интеллигенции как носителя мутной, с его точки зрения, идеи «неявленного» (или же явленного в режиме эпифании, сакрального божественного присутствия) в социальном проектировании; сталинский «орден меченосцев» (ВКПб) окончательно вытесняет интеллигентскую жреческую группировку на периферию советского общества.
Можно сказать, что большевики предпочли естественному появлению ребенка на свет выращивание гомункулуса в колбе – с вполне предсказуемым результатом, и поставить на этом точку в истории формирования гражданской нации в России. История, однако, имела продолжение, по крайней мере в одном любопытном аспекте. Коммунистический режим был заинтересован в том, чтобы представить «новую историческую общность – советский народ» в качестве высшей (небуржуазной) формы существования гражданской нации. При этом в первое же десятилетие после смерти Сталина выяснилось, что единство советского населения было скорее фикцией, чем реальностью (упомяну в связи с этим интересную книгу В.А. Козлова «Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти 1953–1985 гг.»).
По мере проявления фантомной сущности «новой исторической общности» в 50-х–70-х годах история повторилась в виде фарса. Советская интеллигенция вновь, как и в девятнадцатом столетии, попыталась монополизировать речевые практики, относящиеся к большому проекту «достройки» социального единства, на этот раз – проекту построения коммунистического общества. Теперь у интеллигенции формально имелся конкурент в виде КПСС и ее идеологических отделов, но по существу он был столь же слаб (в говорении), как царское правительство. Пафос «нового начала», «начала с чистого листа», столь свойственный шестидесятникам, стирал предшествовавшее как неактуальное и позволял людям, стоявшим по колено в крови, рассуждать о «новом гуманизме», «гармонической личности коммунистического завтра» и даже, прости Господи, о «романтике наших будней». Матричная жреческая потребность в монополии на высказывание вновь оказалась сильнее потребности в реальных реформах, которые в результате запоздали на тридцать лет и обернулись катастрофой.
В любимом народом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» врач и учительница опознают друг друга в качестве «настоящих» людей с помощью особых текстов (песен), маркирующих их принадлежность к интеллигенции – как говорится, «чтоб не пропасть поодиночке». Сопутствующий алтарь с возложенной на него заливной рыбой (исключительной гадостью, по словам Ипполита) является в определенном смысле закономерным финалом длинной истории, в которой, как обычно, переплелись короли и капуста.