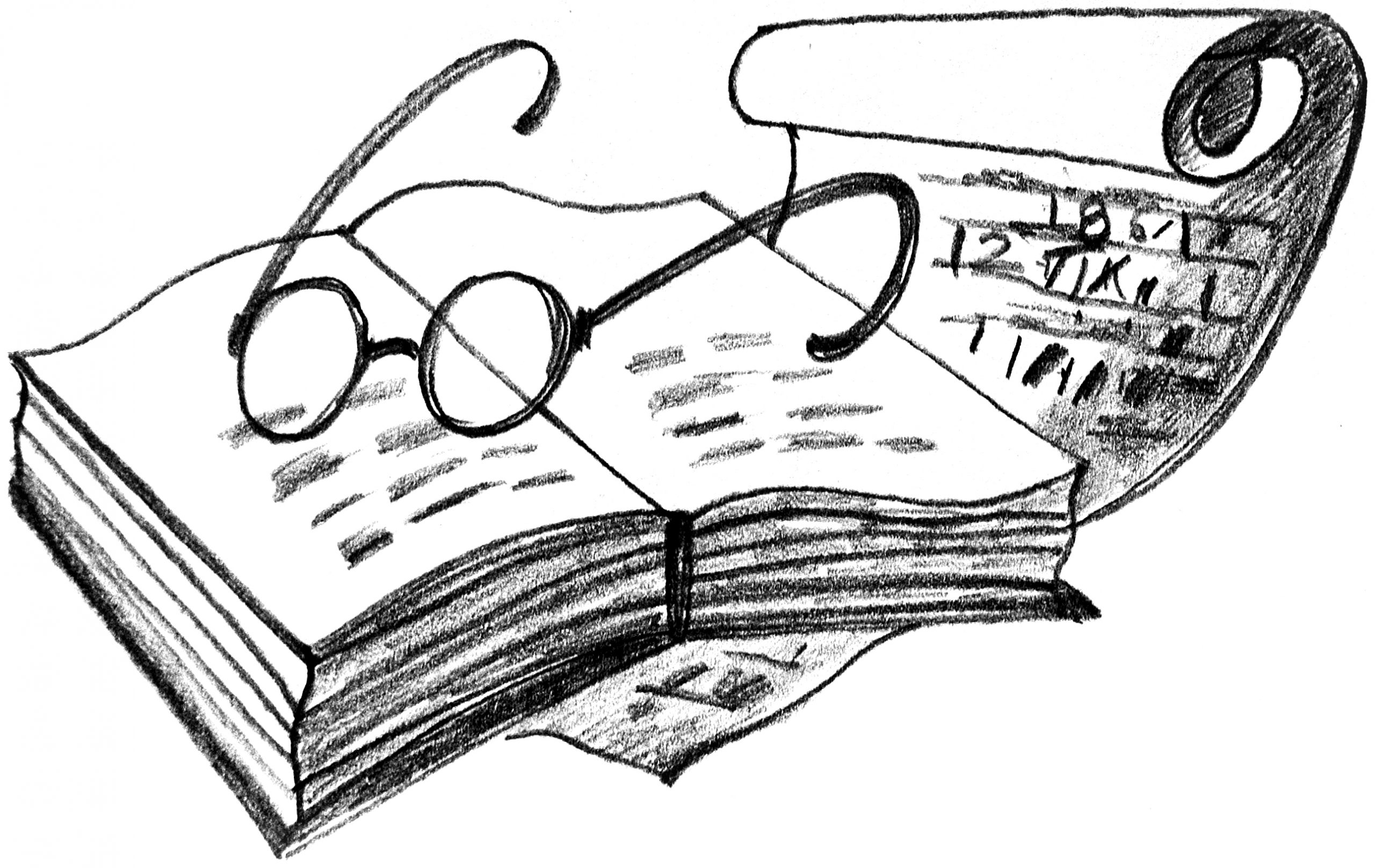Неуловимый Джо
Глобальная гегемония США на протяжении последних тридцати лет является неоспоримым фактом. Воспринимать и оценивать ее можно по-разному; скажу лишь, что повышенный эмоциональный фон многих оценок и суждений мешает точному пониманию «больших событий» двадцатого века и их основных результатов.
Прежде всего следует выяснить, является ли эта глобальная гегемония следствием осмысленных и целенаправленных усилий самих США, то есть имела ли она изначально программный характер или этот характер был придан ей задним числом, и сложившаяся сегодня в мире глобальная конфигурация является следствием взаимодействия многих факторов, в значительной степени сторонних по отношению к США.
Я думаю, что главную роль в возвышении Америки сыграла большая европейская катастрофа, связанная с двумя мировыми войнами и русской революцией. Глубинной причиной этой катастрофы стал кризис национальной модели государства, нашедший свое крайнее (хотя и различное) выражение и в нацизме, и в Холокосте, и в созданном большевиками Советском Союзе. Мысль эта, собственно, не новая, и высказана она была Ханной Арендт еще в первые послевоенные годы. Однако простое противопоставление успешных США, изначально отказавшихся от построения национального государства европейского типа, европейским нациям, «проигравшим» двадцатый век вне зависимости от их приверженности тоталитарным либо демократическим формам организации, далеко не охватывает всей сути проблемы.
Дело в том, что в европейской интеллектуальной и культурной традиции идея «нации» была теснейшим образом связана с идеей «революции» как главного инструмента самореализации нации и ее выхода в горизонт, скажем так, предельного развертывания. Известный французский историк Франсуа Фюре в книге «Прошлое одной иллюзии» убедительно показал, как эта взаимосвязь воздействовала на восприятие русской революции западноевропейскими интеллектуалами, не позволяя им рассматривать революцию как самостоятельный феномен, свободный от национальных контекстов (русских, французских или немецких – не столь уж важно). Согласно Фюре, революция порождает национализм с той же закономерностью, что и национализм – революцию.
Понятно, что в каком-то смысле неожиданно свалившаяся на голову Америки глобальная гегемония поставила перед страной ряд трудноразрешимых проблем. При этом наиболее сложной проблемой, по всей видимости, оказалась четкая артикуляция культурной специфики США по отношению к Европе, в которой до поры до времени не было большой нужды. В определенном смысле у США на протяжении сорока лет холодной войны оказалось два оппонента: военно-политический (Советский Союз) и историко-культурный (страны Западной Европы).
В целом же отказ от базовой европейской смысловой связки «этническая нация+революция» начался в американской культуре задолго до холодной войны, и происходил он отнюдь не гладко. Ресентимент (негодование, озлобление, враждебность) по отношению к денационализированной и равнодушной к идее революции (и, соответственно, к идее анархии) Америке ощутим и у Генри Миллера, и у Хемингуэя с Фицджеральдом; не случайно все трое провели значительную часть жизни за пределами США.
Всё творчество Фолкнера вращается вокруг образа несостоявшейся подлинно американской нации («если бы Юг победил в гражданской войне»); в определенном смысле ресентимент имеет здесь еще более радикальный характер, чем в произведениях завсегдатаев парижских кафе. Такой специфически американский жанр, как вестерн, чаще всего имеет в сюжетной основе непримиримый конфликт белого-одиночки с консолидированными группами индейцев, латиносов и/или белых бандитов, соположенных этническим дикарям; неизменная победа одинокого стрелка (отметим при этом: несущего с собой не перемены к лучшему, а простое восстановление статус-кво) должна убеждать читателя и зрителя в эффективности стратегии индивидуализма и связанного с ней комплекса ценностей.
В определенном смысле классический вестерн представляет собой магическое заклинание, направленное одновременно против двух целей: принципа этнической консолидации и принципа допустимости и оправданности социальных потрясений и анархии. Outlaw, человек вне закона и социальных связей, в одиночку восстанавливающий социальный порядок, является главным героем американской культуры; с европейской точки зрения это, скорее, пародийный персонаж, пребывающий вне моральной оценки и, соответственно, лишенный культурной значимости (см. спагетти-вестерны Серджо Леоне).
Последние по времени сильные проявления национально-революционного ресентимента в американской политической культуре относятся к 60–70-м годам прошлого века. Дополнительную силу им придали нежелание и неготовность немалой части американского общества принять на себя груз глобальной имперской гегемонии США и нести соответствующие этому грузу издержки. То, что проблема незавершенности американского выбора социально-культурной модели сохраняет свою актуальность, в целом подтверждается и избранием Дональда Трампа президентом США и основными направлениями его политики.
Все эти соображения приводят нас к следующему выводу: постоянно повторяющиеся упреки в коммерческом характере американской культуры затрагивают лишь поверхность проблемы и никоим образом не касаются ее сути. Суть же заключается не в том, что американская культура «продает» потребителю, а в том, что она никоим образом не желает ему продавать. Естественно, я имею в виду идеи «нации» и «революции» в их европейском обличье и взаимосвязи. Иначе можно сказать, что американская культура отказывается торговать образами «завтра», обильно замещая их образами «сегодня».
Эту идею, кстати, неплохо иллюстрирует популярный в Америке жанр литературного и кинематографического апокалипсиса (зомби, ядерного, космического, климатического – какого угодно). Пафос подобных произведений опрокидывает завтра в сегодня, заставляя читателя и зрителя переживать гипотетическую будущность как непосредственный практический опыт.
Вряд ли большим преувеличением будет вывод о том, что американская культура способна говорить о будущем только в режиме новостных программ CNN. Естественно, подобная культурная модель вызывает отторжение у немалой части интеллектуалов – как американских, так и прочих – в связи с тем, что производство образов будущего и продажа этих образов являются одним из основных направлений их профессиональной деятельности. В культуре Америки, которую условно можно назвать «трамповской», университетам и серьезным медиа, по существу, отведена роль интеллектуальных гетто, что дополнительно усиливает и без того немалое напряжение во взаимных отношениях «двух Америк». Стивен Кинг давно одержал убедительную победу над «яйцеголовыми».
Все это, как и многое другое, следует иметь в виду, рассматривая приемлемость американской культурной модели (крайне неточно именуемой «коммерческой») для неамериканских обществ. Речь идет даже не о сравнительно простых случаях вроде российского, когда продавать по части культуры, во-первых, нечего, во-вторых – некому. Наиболее уязвимым элементом этой модели с точки зрения европейской традиции является свертывание исторического измерения жизни общества и исторического времени в целом. Вероятно, это и есть главная цена, которую в двадцать первом столетии придется платить за глобальную гегемонию и успешное воспроизводство общества потребления.