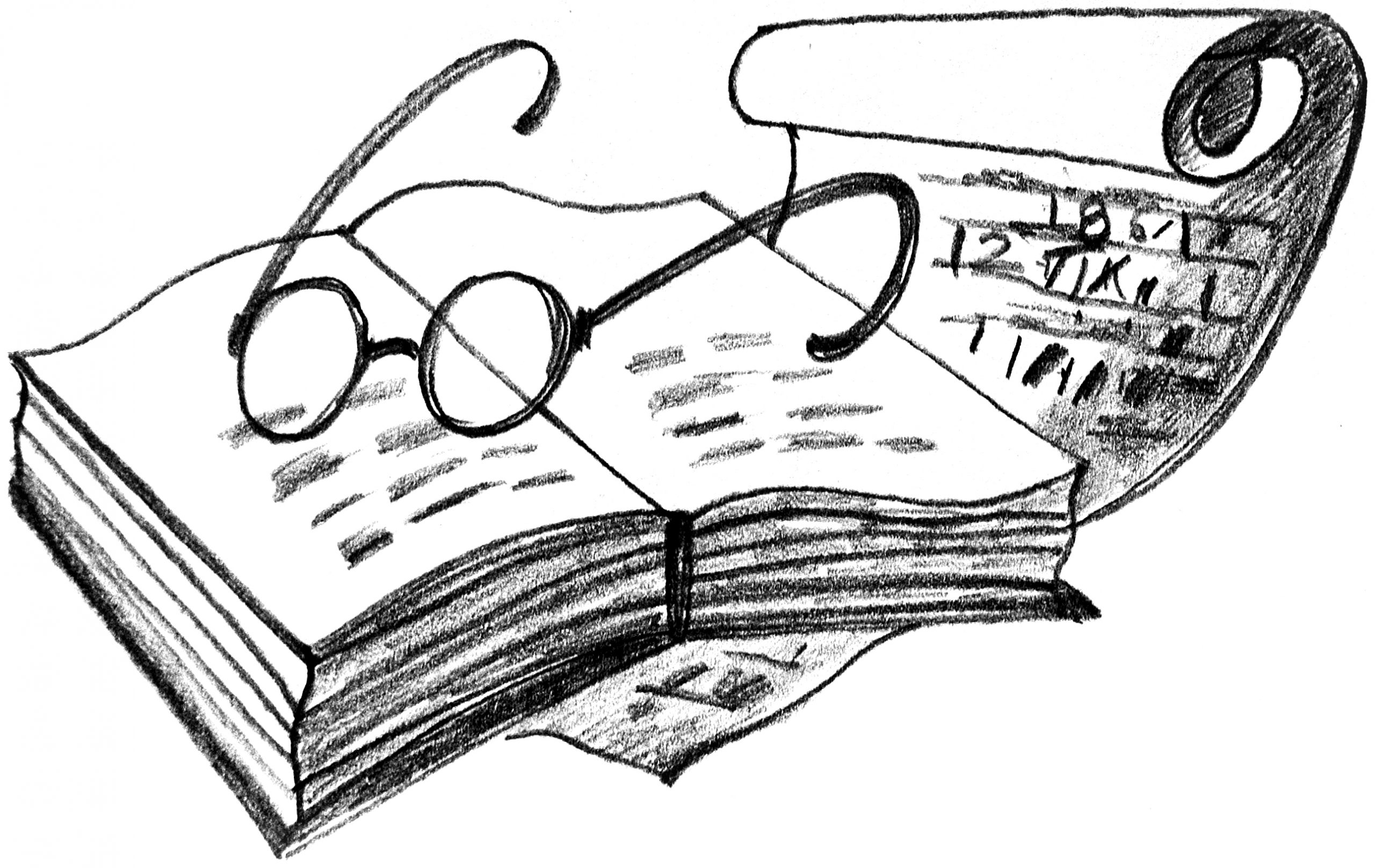Все – на корпоратив?
Существует достаточно распространенная точка зрения, согласно которой антипутинские выступления в Москве и антитрамповские настроения (и действия) в США имеют между собой нечто общее. Это общее усматривается в попытках гражданского общества (зрелого – в Америке; формирующегося – в России) противостоять тенденции к авторитарному правлению, которое рассматривается как синоним некомпетентности и деградации государства. При нежелании или неспособности размышлять самостоятельно эту (либеральную) интерпретацию происходящих событий можно принять; сделать это тем легче и проще, что подается публике она с большим нажимом и внятной альтернативы пока не имеет.
Не буду оспаривать наличие определенных параллелей между процессами, происходящими сегодня в двух из трех крупнейших государств современного мира. А вот понимание и истолкование этих процессов может быть и иным: далеко не столь наглядно явленным и очевидным и, главное, вовсе не подразумевающим простого распределения граждан по группам сторонников и противников либеральной демократии/авторитаризма.
Многое в происходящем станет более понятным, если политическое наследие двадцатого века рассматривать в полном объеме, а не в отфильтрованном либеральной традицией усеченном виде. В качестве окуляра для наблюдения за современностью я предлагаю читателю проект корпоративного государства, как выясняется, вовсе не сданный в архив истории. Вопреки распространенному мнению этот проект не связан исключительно с государством, созданным Муссолини в Италии; впервые идеи корпоративизма были сформулированы как актуальный проект государственно-социальной инженерии в булле «Rerum Novarum» папы Льва XIII в 1891 году.
Суть идеи корпоративной государственности в кратком изложении заключается в том, что государство перестает «видеть» гражданское общество как целое и воспринимает население исключительно как совокупность дифференцированных коллективных «тел» (corpora) – профессиональных, религиозных, этнических; принципы членения могут быть любыми. При этом далеко не все корпорации имеют естественное происхождение, часть из них может быть создана государством искусственным (наведенным) образом. Понятно, что из такой организации должны быть устранены все элементы вертикальных общественных связей, а именно система политического представительства партийно-парламентского типа, способная объединять граждан вне зависимости от их корпоративной принадлежности.
Пока мы движемся достаточно проторенной дорогой; определение современной России в качестве «корпоративного государства» является для западной политологии скорее нормой, чем исключением. Действительно, в стране сложились как минимум две корпорации – так называемых силовиков и чиновников, отношения с которыми государство строит напрямую и по существу, вне конституционных норм. Население под воздействием мощного импульса такого рода вовлекается в корпоративные игрища, измышляя собственные корпорации вроде «детей войны», «детей детей войны» или же, с подачи недобросовестных политтехнологов, «жертв перестройки» (последний по времени пример). При этом не следует связывать этот тренд в российском государственном строительстве исключительно с именем нынешнего президента, как это чаще всего делают на Западе; схожие проекты, слегка прикрытые архаизирующим сословным флером, присутствуют, к примеру, в поздних статьях Солженицына.
Ситуация с внедрением элементов корпоративной государственности в США выглядит не столь очевидной. В то же время даже стороннему наблюдателю понятно, что два последних президентства – Обамы и Трампа – провели в теле нации гораздо более глубокие разграничительные линии, чем это происходило ранее в кратковременные периоды избирательных кампаний. Сегодня «яйцеголовые» либералы и консерваторы-«реднеки» в Америке – это уже не просто сторонники того или иного кандидата в президенты, это очевидные протокорпорации, готовые пожертвовать гражданским единством нации ради реализации своих корпоративных интересов. Безобразное кривляние голливудских звезд первого ранга, пародировавших Трампа в ходе президентских выборов с полным осознанием того, что за ним стоит примерно половина избирателей, является ярчайшим подтверждением победы корпоративного духа над принципами отцов-основателей. С другой стороны, и Трамп трактует конституцию в отношениях как со своими сторонниками, так и с противниками настолько свободно, насколько ему (пока) позволяют обстоятельства.
А вот дальше начинается самое интересное. Если в США три последних цикла президентских выборов повлекли за собой оформление устойчивых протокорпораций, имеющих все шансы превратиться в полноценные корпорации, то не имеет ли смысла рассмотреть под схожим углом зрения и московские протесты, особенно с учетом того, что «москвичи» в современной России представляют собой корпорацию, по существу мало чем отличающуюся от «силовиков» и «чиновников»? Кто, собственно, сказал, что московское протестное движение имеет своей целью защиту общих принципов либеральной демократии, понятых вне связи с защитой вполне конкретных корпоративных интересов?
При ответе на этот вопрос имеется безошибочный проверочный оселок: отношение протестного движения к восстановлению реального федерализма (кстати, закрепленного российской конституцией). Тема эта практически не звучит в ходе протестов или звучит уж совсем под сурдинку с целью тактического привлечения на свою сторону региональных сообществ. И это понятно, поскольку восстановление полноценного федерализма не только не соответствует интересам корпорации «москвичи», но и прямо угрожает этим интересам, сложившимся за последние тридцать лет. Образно говоря, судьба некоей Любови Соболь как представителя корпорации вполне логично представляется участникам московских протестов более важной, чем судьба миллионов соотечественников в Томске, Архангельске и Краснодаре. Тот же самый подход ярко проявился в акциях «артистов – за артистов» и «студентов – за студентов», задержанных на улицах Москвы.
По существу в Москве мы имеем дело с конфликтом двух альтернативных версий корпоративного государства: традиционной, при которой рассечение общества на группы производится сверху произвольным образом, и новой, условно говоря, «сетевой», при которой корпорации возникают в режиме самоорганизации и склонны диктовать государству режимы взаимодействия. Собственно, второй вариант членения является столь же произвольным, как и первый, но имеет в отличие от первого анархическую природу. Именование второй версии «сетевой» вполне уместно, поскольку практическая реализация принципов «нового корпоративизма» стала возможной с появлением глобальной Сети. В странах, где условия для открытого политического противостояния сторонников альтернативных версий корпоративного государства пока не сложились, «сетевой корпоративизм» до поры до времени представлен антиглобализмом, агрессивным феминизмом и экологическим движением. Разминка боем, так сказать.
Если размышлять о предпочтительности одного типа корпоративизма другому, то, как говаривал товарищ Сталин в таких случаях, «оба хуже». Лики российского государственного корпоративизма нам ежедневно демонстрирует телевидение, а лики корпоративизма сетевого по преимуществу скрыты балаклавами и никнеймами, что внушает вполне оправданные опасения относительно скрывающейся под ними очередной девочки Греты. Вопрос о возможности относительно мирного сосуществования этих двух «корпоративных» проектов не имеет сегодня очевидного ответа. Даже в Европе, где их противостояние пока не имеет открытой политической формы, а государство в целом сохраняет еще достаточно традиционный облик, некий временный консенсус (в частности, с корпорацией «мигранты», да и с «желтыми жилетами») обеспечивается всё возрастающей ценой, которая не может расти бесконечно. В России же конфликт государственной и сетевой разновидностей корпоративизма отличается высокой степенью остроты и напряженности во многом потому, что он четко локализован и ограничен территорией Москвы. Остальная часть страны, как всегда, существует в ином историческом времени.