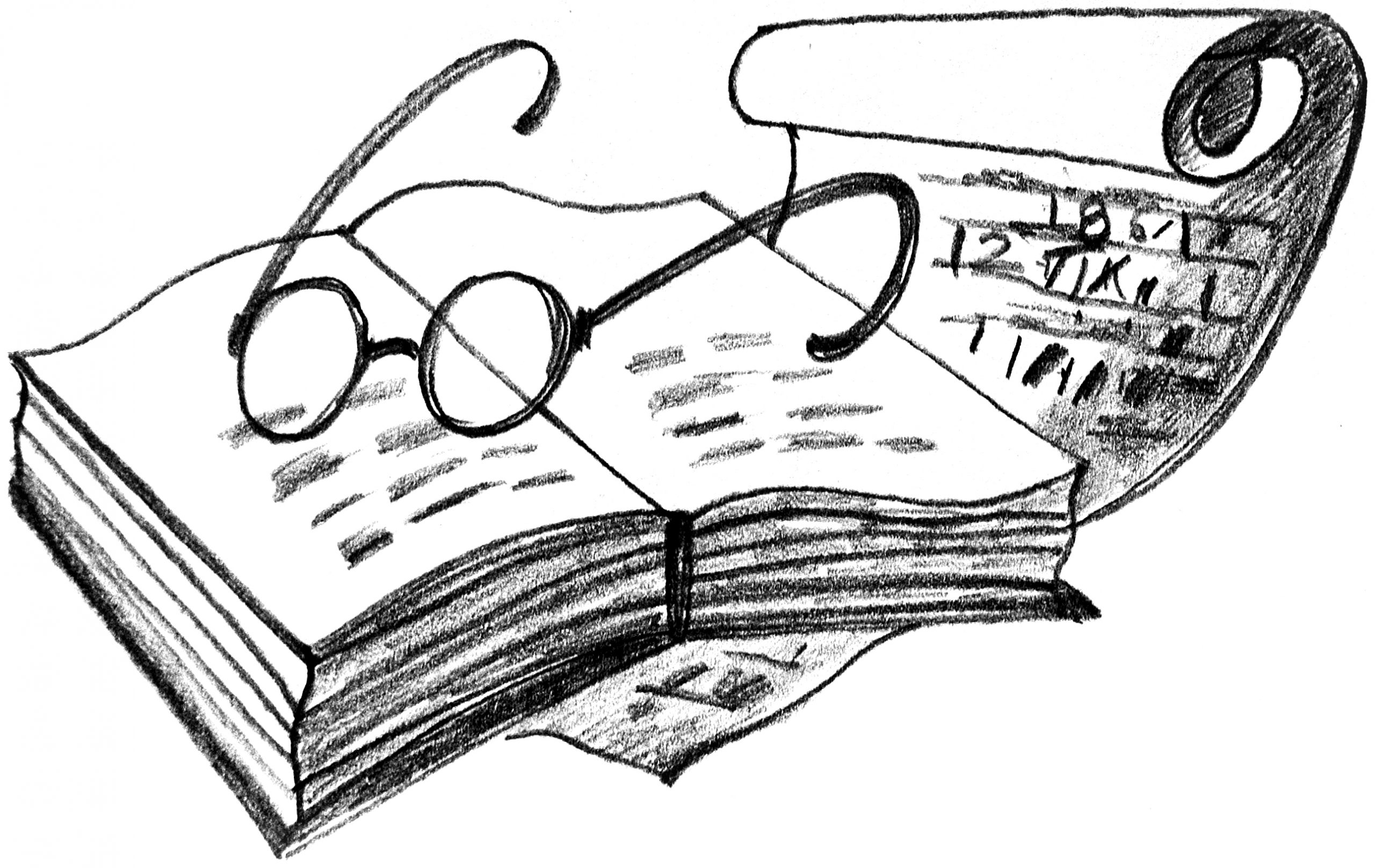«Я без дела не хожу…»
Основной характеристикой современного российского искусства является его бессмысленность. Если, в соответствии с формулировкой великого русского поэта, к бессмысленности можно было бы добавить беспощадность, то мы получили бы в итоге искусство русского бунта. Но таковым оно не является, а является искусством всего лишь бессмысленного жеста, глубоко укорененным в местной культурной традиции. В качестве иллюстрации к этому тезису я хотел бы рассмотреть три культурных артефакта разного происхождения, имеющих, как выяснится, единую матричную основу.
1. Питерская акция некоей арт-группы под условным названием «Половой член в плену у известной организации трехбуквенного обозначения».
2. Недавняя «черная» свадьба двух персонажей московской гламурной тусовки с прибытием новобрачных на торжество в катафалке и сопровождающими художествами.
3. Старая фольклорная частушка, начинающаяся со слов: «Мимо тещиного дома я без дела не хожу…» Продолжение, я думаю, известно всем.
Во всех трех случаях мы имеем дело с тем, что обычно именуется перформансом. Перформанс (буквально – «через форму», «посредством формы») в традиционных культурах задействуется как художественный прием в тех случаях, когда репрезентация осуществляется методом отбора наиболее значимых элементов объекта с синхронизацией их в разовом акте «показа». Люди старшего поколения помнят, как еще молодой артист Леонид Ярмольник развлекал советских телезрителей «показами» попугая и унитаза – это были простейшие примеры художественного перформанса. У попугая «отбирались» скошенные к носу глаза и гребень на голове плюс безумный вопль, у унитаза – подвесная ручка и соответствующий шум спускаемой воды…
Присутствовал ли некий «смысл» в перформансах Ярмольника? Ответить на этот вопрос затруднительно, если понимать под смыслом сообщение с неким новым для аудитории содержанием. Смысл в них появляется лишь в том случае, если под содержанием понимать сообщение о способности человека изобразить попугая и унитаз. Таким образом, смысл здесь оказывается определенным образом закольцован с самим актом показа и не выходит за его пределы; можно сказать, что смысл схлопывается, отождествляясь с перформансом как самодостаточной смысловой единицей.
Я вовсе не хочу сказать, что все перформансы имеют подобную «свернутую» природу, это далеко не так, особенно применительно к архаичным культурам. Суть здесь в том, что при желании и определенном умении (пишу это без иронии) перформанс можно в крайнем случае трактовать как бессмысленный жест. В чем смысл демонстрации теще голой задницы зятя? В чем смысл прибытия на собственную свадьбу в катафалке? В чем смысл изображения огромного полового члена на разведенном Литейном мосту? Смысл во всех трех случаях обнаруживается общий, и он полностью заключается в принципиальной осуществимости подобных актов.
Если читателю кажется, что всё сказанное относится только к крайностям художественного акционизма в его российской интерпретации, то это далеко не так. Я смотрю новые российские фильмы очень выборочно, тем не менее среди относительно свежей кинопродукции многое подтверждает осознанную или бессознательную ориентацию ее создателей на эстетику бессмысленного жеста. Возьмем, к примеру, фильм Валерия Тодоровского «Стиляги» и его же сериал «Оттепель». С моей точки зрения, и тот, и другой являются яркими примерами перформативной стилистики, по существу ограничивающейся воспроизводством жестикуляции в широком смысле слова (при вполне профессиональном качестве режиссуры и неплохом, хотя и не во всех отношениях, кастинге). С учетом ностальгической специфики обоих фильмов здесь, скорее, теща ходит мимо дома зятя, сопровождая свои проходки определенными частушечными действиями, но сути дела это не меняет. Особенно ярко специфика подобной эстетики выступает в сравнении, скажем, с «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, также содержащим обильную ностальгическую составляющую. Весь фильм Тарантино построен на сложных оппозициях «действительное–возможное», которые и создают богатое облако смыслов, значительно превосходящее по объему и глубине действенность ностальгического жеста. Раз уж речь зашла о Тарантино, следует заметить, что и главный российский «тарантинист» Алексей Балабанов заимствовал у американца по преимуществу культуру кинематографического жеста; именно поэтому «Жмурки» выглядят не более чем забавно, а «Палп фикшн» моментально стал классикой мирового кино. Любопытную эволюцию за полвека проделал в этом направлении кинематограф Никиты Михалкова: если в ранних его фильмах жест наделялся определенной символикой (подчас настолько откровенной и прямолинейной, что ее можно было даже счесть сомнительной), то в поздних лентах вроде «Солнечного удара» авторские жесты приобретают совершенно самодостаточный характер и напоминают бутерброд с черной икрой горкой, густо и чрезмерно намазанный маслом.
Пафос бессмысленного жеста в определенном смысле является основой эстетики соц-арта; совсем не случайно среди произведений соц-арта такое значительное место занимают инсталляции. В этой связи немалый интерес представляет творческая эволюция Владимира Сорокина, начинавшего свой путь в искусстве в качестве ученика советских мэтров соц-арта; соответственно, им и осваивалась стилистика прозы, трактующей речь как бессмысленный жест (вопль или бормотание идиота). Со временем в прозе Сорокина по мере его отхода от соцартовской стилистики стали возникать (сначала в мерцающем режиме, потом всё более осязаемо) комплексы смыслов, недоступных для передачи посредством перформативных актов демонстрации попугаев и унитазов. Как мы увидим далее, именно с этим был связан радикальный отказ писателя от эстетики соцреализма; сам по себе стёб над «совком» этого отказа вовсе не подразумевал. Собственно, именно этот «отскок» и позволил Сорокину осуществить масштабную ревизию традиции русской литературной классики. Выдающееся сорокинское мастерство перформанса при этом никуда не делось и вполне себе пригодилось для пародирования и выворачивания классических произведений.
Итак, мы имеем ситуацию, при которой значительная часть культурной продукции основывается на эстетике самодостаточного (равно – бессмысленного) жеста и, более того, именно этой эстетикой легитимизируется. Важно понять, как эта ситуация возникла и почему подобные художественные практики оказались и остаются востребованными. В решении этой задачи нам могут помочь книги Евгения Добренко «Политэкономия соцреализма» и «Поздний сталинизм. Эстетика политики». Первую из них я считаю блестящей без всяких оговорок, вторую – достаточно спорной в том, что касается идеи формирования советской нации вообще и периода 1946–1953 гг. как определяющего в процессе этого формирования – в частности. Но сейчас нас интересует не это, а понимание социалистического реализма в книгах Добренко: в его интерпретации главная задача соцреализма заключалась в стирании различий между действительным и возможным. Подавались они, как говорится, «в одном стакане»; в результате коктейль приобретал совершенно фантасмагорический характер и по существу не содержал в себе в итоге ни действительного, ни возможного. На выходе получалась, выражаясь кастанедовским языком, «другая реальность» как результат наведенной галлюцинации или наркотического трипа. Удачной иллюстрацией к плодам подобных усилий являются слова Сталина после предварительного просмотра фильма Ивана Пырьева «Кубанские казаки»: «А всё-таки неплохо у нас обстоит с сельским хозяйством». Вполне понятно, что такая реальность могла быть создана только в результате перформативного акта, причем акта абсолютно самодостаточного, лишенного отсылок к каким-либо сторонним смыслам, способным погубить всю затею.
Дальше, на мой взгляд, произошло следующее: цирк уехал, а клоуны, как говорится, остались. Формально соцреализм как художественный метод приказал долго жить, но по существу его художественные практики перформативного жеста продолжают массово воспроизводиться в качестве единственного трюка, известного старой собаке. Главное отличие от былых времен заключается в том, что смысл этого единственного трюка безвозвратно утерян, поэтому он приобрел дополнительное свойство абсолютной бессмысленности. Именно в результате этого степень его беспощадности по отношению к аудитории по сравнению с советскими временами, к сожалению, заметно увеличилась.